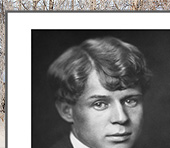


3
Уже шла речь о крестьянской теме в русской поэзии XIX века. Во второй половине столетия эта тема приняла особо острый социальный характер.
События 60-х годов всколыхнули крестьянский мир - великое народное море. На всю Россию звучал голос Некрасова, полный печали и гнева, сострадания и мужества, глубокой скорби и призыва к борьбе.
Уже Некрасов являлся свидетелем бурного развития капитализма в России, который нес новое разорение русскому крестьянству. Безжалостное наступление капитализма на нищую деревню еще более усиливалось во второй половине XIX века. Часть русской интеллигенции возлагала иллюзорную надежду на крестьянскую общину, которая якобы сможет противостоять этому разрушительному наступлению, сохранив патриархальные устои деревни. Эти исторически несостоятельные идеи позднего народничества нашли довольно многочисленные отклики в русской литературе.
Но то русло русской литературы, которое отмечено именами Некрасова, Чернышевского, призвавшего русское крестьянство "к топору!", все более обогащалось. В противовес идиллическим картинам патриархальной деревенской жизни в русской литературе появляются произведения, в которых без прикрас рисуется правда во всем ее драматизме. Таковы были, например, многочисленные произведения Глеба Успенского, о котором Есенин писал: "Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализация народничества 60-х и 70-х годов мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего, там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку. Для них крестьянин - это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Для того, чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревню.Успенский видел его и на Растеряевой улице. Он показал его не с одной стороны, а со всех" (т. V, стр. 62).
После реформы 1861 года "старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой". Так писал об этой эпохе В. И. Ленин в статье "Лев Толстой, как зеркало русской революции" (т. 15, стр. 183). Те бурные и глубоко противоречивые процессы, которые происходили в жизни русского крестьянства в знаменательную эпоху 1861-1905 гг., нашли небывало глубокое отражение в творчестве Л. Толстого. Говоря о том, что Л. Толстой в своей критике современных порядков "стоит на точке зрения патриархального, наивного крестьянина", что "Толстой переносит его психологию в свою критику, в свое учение",- Ленин отмечал, что "эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских "хитровцев" и т. д. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, "непротивление злу", бессильные проклятья по адресу капитализма и "власти денег". Протест миллионов крестьян и их отчаяние - вот что слилось в учении Толстого" (т. 16, стр. 302).
Протест и отчаяние русского крестьянства, принимавшие различные формы выражения, содержали в себе и безотчетный страх патриархальной деревни перед капиталистическим городом. Ленин писал в этой связи о Толстом: "Его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянства, на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все "устои" деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис..." (там же, стр. 294-295). Отчуждение деревни от города, самоизоляция патриархального крестьянства делали исторически бесперспективным само чувство гнева, возмущения и протеста крестьянства против помещичье-самодержавного строя России. Ленин указывал, что крестьянская масса показала в революции 1905 года, "что в своей ненависти она недостаточно сознательна, в своей борьбе непоследовательна, в своих поисках лучшей жизни ограничена узкими пределами" (там же, стр. 323). И еще до Октябрьской революции Ленин указывал на решающее значение для крестьянства руководства со стороны рабочего класса, который выводит его на широкий путь революционной борьбы.
Только с учетом всего этого можно объяснить позицию Есенина после Октября, увидеть причину противоречивости его творчества, понять эволюцию поэта.
После Октябрьской революции вопрос о взаимоотношении рабочего класса и крестьянства, города и деревни приобретает острое политическое значение. Он становится в центре внимания Коммунистической партии и Советского правительства. "Союз рабочих и крестьян - вот что дала нам Советская власть. Вот в чем ее сила. Вот в чем залог наших успехов и нашей окончательной победы" (т. 33, стр. 221),- утверждал В. И. Ленин. На X съезде партии Ленин говорил: "Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах" (т. 32, стр. 192). Еще в 1917 году Ленин выражал уверенность, что "крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства" (т. 26, стр. 209). Партия делала все возможное для того, чтобы всемерно крепить союз рабочих и крестьян, города и деревни, чтобы сделать интересы пролетарской революции интересами крестьянства, чтобы помочь крестьянину преодолеть былую ограниченность, замкнутость и отчужденность, пробудить его политическое сознание.
Вокруг этого большого и сложного вопроса, который Ленин считал одним из труднейших вопросов революции в России, шла ожесточенная политическая борьба. Она заметно отразилась и в литературе того времени. И прежде чем говорить о теме города и деревни в поэзии Есенина, необходимо коснуться этой темы в литературе периода гражданской войны и первой половины 20-х годов.
Советские писатели, прочно связавшие свою судьбу с революционной современностью, понимали огромное политическое значение единства города и деревни, пролетариата и крестьянства, стремились своим творчеством способствовать решению этой важной задачи. Много сил и труда отдал этому Д. Бедный. В поэме "Про землю, про волю, про рабочую долю" он показал, как крестьянский паренек постепенно убеждается в рабочей правде. В песне "Проводы" ("Как родная меня мать провожала...") он призывал крестьян вступать в борьбу за Советскую Россию. В стихотворении "Правда" (1919) Д. Бедный отвечал на письма красноармейцев-крестьян, спрашивавших его о городской и деревенской жизни:
Одинаково нам дороги Труд на пашне, в мастерской, Та ж семья,- не злые вороги,- Сельский люд и городской. Общим станем мы содружеством Жизнь налаживать свою, Силой равные и мужеством И в работе и в бою*.
* (Демьян Бедный. Собрание сочинений, т. II, М., Гослитиздат, 1954, стр. 230.)
Этой же теме посвятил немало своих ростинских плакатов В. Маяковский. В одном из них он писал:
Ненавистью древней
Против городов
Горели деревни.
Трудились крестьяне,
А городу все мало,
Все утроба городская отнимала...
. . . . . . . . .
Прошли денечки, те, что были,
Господ в городах рабочие сбили.
Теперь в городах брат твой
Такой же, как ты, рабочий трудовой.
Ты рабочему городскому - друг, тебе
друзья - они.
Пролетарий деревни, пролетарию города
руку протяни (т. 2, стр. 131-132).
Такова же была позиция многих рабочих поэтов, выступавших тогда в Пролеткульте: В. Александровского ("Две России"), С. Обрадовича ("Город"), Н. Полетаева ("Сломанные заборы"), М. Герасимова ("Железное цветение"), которые славили рабочий город, призывали крестьян идти за рабочими.
С большой глубиной разрабатывалась тема единства города и деревни, союза рабочего класса и крестьянства в прозе 20-х годов. Основное место ей уделил Д. Фурманов в романе "Чапаев". Он раскрыл эту тему на материале гражданской войны, показав, как рабочий класс вел за собой крестьянские массы, преодолевая их стихийные настроения. На этом строится история взаимоотношений Иваново-Вознесенских рабочих и крестьян - бойцов чапаевской дивизии, комиссара Клычкова и командира партизан Чапаева. Фурманов показал, как, благодаря руководству рабочего класса и Коммунистической партии, партизанская борьба крестьянства приобретает исторически осознанный характер.
В философском плане освещал проблему города и деревни Л. Леонов в романе "Барсуки". С большой силой писатель изобразил живучесть старых крестьянских предрассудков по отношению к городу. Барсуки - та отсталая часть русского крестьянства, которая после революции со слепой ненавистью продолжает относиться к городу, к городским рабочим, видя в них своих врагов. Они задумывают погубить города "дубьем и бесхлебьем". "Миллионом скрипучих сох запашем городское место",- мечтают они. Леонов убедительно показал в романе неизбежность крушения реакционных замыслов старых сил русской деревни, победу пролетарской революционной сознательности над разгулом дикой анархии и стихийности. Революционный город одерживает победу и ведет за собой крестьянские массы.
Такова одна линия молодой советской литературы, живо откликнувшейся на жгучий вопрос революционной современности.
Но одновременно с этим в литературе тех лет существовало и другое направление. Преимущественно оно было представлено так называемыми "крестьянскими" поэтами, творчество которых входило в резкое противоречие с новой Эпохой. Неверным было бы ставить всех этих поэтов на одну доску, не видеть разницы между ними. В творчестве каждого из них были свои оттенки - от зашифрованных политических деклараций, направленных против политики партии и Советского правительства, до бессознательной биологической привязанности к старой дедовской Руси, к ее патриархальному укладу.
Так, например, творчество Н. Клюева открыто выражало сопротивление косной части крестьянства исторически необходимому и неизбежному социалистическому переустройству деревни под руководством рабочего класса. С нескрываемой ненавистью к советскому строю, к тому новому, что проникало в деревню, писал он о городе и о рабочих. "Злой и железногрудый", "смрадный каменный ад", "преисподняя земли", "ад, где крики железа",- таким рисовал он советский город. В противоположность этому русская деревня в стихах Клюева выступала как некий райский "Китеж-град", отмеченный божьей благодатью, в котором "пятно зари, как венчик у святых", "солнце - господнее око", лес - "хвойный храм", "пташки - клирошанки" и т. п. В Китеже - иконостасы, образа, ладан, елей" ризы, требники, алтари, кресты и среди них сам поэт - " "Миколай епископ". И вот на этот мир "святости" надвигается город - дьявол: "Китеж град ужалил лютый гад". Клюеву видится, как в Смольном стоит гроб с останками "Руси великой", о которой "тоскует народ в напевах татарско-унылых". Именно "татарской", азиатской, хотел видеть Клюев Россию. Враждебность деревни городу он передавал через враждебность земледельческого Востока индустриальному Западу: "Сгинь Запад - змея и блудница, Наш суженый - отрок Восток!". Это была идеализация той самой восточной неподвижности России, с которой, по словам Ленина, покончила еще революция 1905 года. Мечты о ней после Октября вскрывали реакционную сущность позиции Клюева. "Подарят саван заводским трубам Великой Азии пески",- не унимался этот апологет азиатчины. Все воздыхания Клюева о восточном райском городе Китеже были не чем иным, как оплакиванием той "старины", которая обеспечивает сытое кулацкое благополучие крестьянской верхушки.
"Полу-крестьянин, полу-интеллигент, полу-начетчик, полу-раскольник",- так характеризовал Клюева В. Брюсов, отмечая, что "все его произведения переполнены мистическими настроениями и церковными образами", что он "представляет себе Россию только как "святую Русь крещенную"*. Несколько позже Горький предупреждал молодых поэтов от пагубного влияния Клюева - "певца мистической сущности крестьянства и еще более мистической "власти земли" (т. 27, стр. 349).
* ("Художественное слово", сб. второй, Изд. НКП, Пг., 1920, стр. 64, 65.)
Но Клюев не только вздыхал и оплакивал прошлое. Он пытался активно вмешаться в литературную борьбу. Естественно, что объектом его нападок оказались поэты, тесно связанные с революцией. "Маяковскому грезится гудок над Зимним, А мне журавлиный перелет и кот на лея;анке",- так начинал он свою атаку на "городского" Маяковского. "Умереть у печных утесов индустриальной волне",- предрекал он. Особую ненависть Клюева вызывали рабочие поэты, которым он противопоставлял себя и других "крестьянских" поэтов:
Мы - ржаные, толоконные, Пестрядинные, запечные, Вы - чугунные, бетонные, Электрические, млечные. Мы - огонь, вода и пажити, Озимь, Солнца пеклеванные, Вы же тайн не расскажете Про сады благоуханные. Ваши песни - стоны молота, В них созвучья - шлак и олово; Жизни дерево надколото, Не плоды на нем, а головы. . . . . . . . На святыни пролетарские Гнезда вить слетелись филины; Орды книжные, татарские Шестернею не осилены*.
* (Н. Клюев. Песнослов, кн. II. Пг., 1919, стр. 208-209.)
Клюев не стесняясь писал о себе: "Я посвященный от народа, На мне великая печать". "Первым народным поэтом" называл Клюева все тот же Иванов-Разумник, причем "народность" его он видел как раз в том, что Клюев-де "вскрыл стародавнюю народную правду об исконной борьбе "земли" с "железом"*.
* (В сб. "Красный звон". Пг., 1918, стр. 8.)
Подобные демагогические фразы, конечно, не могли скрыть истинную антинародную сущность позиции Клюева. Звать к победе "земли" над "железом" значило выражать, с одной стороны, взгляды самой отсталой части крестьянства, с другой - кулацких его слоев, пытавшихся поставить город в полную зависимость от зажиточного крестьянства. В условиях пролетарской революции это означало попытку наступления на социалистический город, на революционный пролетариат. Это хорошо понимали писатели-рабочие, на которых ополчался Клюев от имени "крестьянских", точнее, псевдокрестьянских, поэтов. Литератор Пролеткульта П. Бессалько писал в статье "О поэзии пролетарской и крестьянской": "Вопрос и ответ, какая поэзия должна главенствовать, вопрос не праздный, ибо тут дело идет не только о поэтических образах и литературных формах, а касается того, какова должна быть Россия. Должна ли она быть земледельческо-крестьянской, с идеалом мужицкого рая, или пролетарско-социалистической, с машинно-городским укладом"*.
* ("Грядущее", 1918, № 7, стр. 14.)
В своих нападках на "железный город" Клюев не был одинок. Их можно было отчетливо услышать и в творчестве С. Клычкова (1889-1940), о котором Есенин говорил: "Одно время сблизился с Сергеем Клычковым, поэтом очень близким мне по духу"*. Еще до революции Клычков выступил со стихами, в которых русская деревня изображалась в идиллических тонах, стилизованно-патриархальной (сборник "Потаенный сад", 1913). Особенно показательной была его повесть "Чертухинский балакирь" (М., 1928), наполненная чертями, лешими, русалками, вещими снами, приворотами, заговорами, оборотнями, чарами и пророчествами. В этот мир, излюбленный автором, является "железный черт", который уничтожает зверей, рыб и птиц, срезает все деревья "пилой-верезой" и вот-вот "привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины". "Полагаю, все такое пошло от городов",- рассуждает автор-рассказчик и далее пишет, не скрывая своей ненависти: "Город, город, под тобой и земля не похожа на землю... Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной...".
* (И. Розанов. Есенин о себе и о других, стр. 17.)
"У Клычкова мрак и невежество в опоэтизированном виде - основная тема... Благоговение перед крестьянскими суевериями, как перед эстетической ценностью, становится кандалами на ногах писателя"*,- так характеризовал творчество Клычкова А. Луначарский в своем докладе "Крестьянская литература и генеральная линия партии". Как "провинциализм", как "поэзию отмирающей многомиллионной России" (т. 29, стр. 482) определил М. Горький "философскую" основу творчества Клычкова.
* (В кн. "Пути развития крестьянской литературы" (стенограммы и материалы Первого Всероссийского съезда крестьянских писателей). М.- Л., ГИЗ, 1930, стр. 57.)
Во многом иной была позиция П. Орешина (1887- 1943), творчество которого тесно связано с русской деревней. В 1918 году Есенин писал о его книге стихов "Зарево", что она "похожа на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хата", и "даже и боль ее, щемящая, как долгая заунывная песня, понятна сердцу" (т. V, стр. 67). П. Орешин безоговорочно принял Октябрьскую революцию, был активным сотрудником "Правды". А. Луначарский отмечал, что в его творчестве есть "пафос революционного подъема"*. Но вместе с тем и в поэзии П. Орешина мы находим все то же недоверие к городу, якобы несущему гибель деревне, ту неприязнь к "железу", которая сразу же выдавала биологическую привязанность к патриархальному деревенскому укладу. В сборнике стихов "Ржаное солнце" (1923) он сожалел о том, что над русскими деревнями встает "стальной зари чудовищный разлив", и вкладывал в уста крестьян слова: "Задушит нас, задушит скоро нас В полях ржаных железная рука". В сборнике под пессимистическим названием "Соломенная плаха" (1925) он продолжал разрабатывать ту же тему:
* ("Известия", 1919, 27 ноября.)
Не хочу железных небоскребов, По полям - железный красоты. Вижу я: бредет среди сугробов Русский парень в думах золотых. Чем богаче и роскошней город, Тем в полях задумчивей изба...
В своем известном стихотворении "Юбилейное" "мужиковствующих сворой" назвал В. Маяковский псевдокрестьянских писателей, которые так или иначе противопоставляли деревню городу, воспевали патриархальный уклад старой русской деревни, обреченный на слом, не желали замечать признаков новой жизни, выводившей крестьянство на широкую социалистическую дорогу.
При всех индивидуальных особенностях так называемых крестьянских поэтов, их делало похожими то, что они, как правило, смотрели в прошлое, а не в настоящее и тем более не в будущее, идеализировали это прошлое, притивопоставляя его революционной современности.
В этом отношении весьма характерно высказывание одного из них, А. Ширяевца. Защищаясь от упреков в стилизованном изображении русской деревни, он писал в 1917 году: "Отлично знаю, что такого народа, о котором поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?... И что прекрасней: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками или нынешнего дня Чурила в американских штиблетах, с Карлом Марксом или "Летописью" в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-богу, прежний мне милее!.. Пусть уж о прелести современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-птицу, поеду к тургеневским усадьбам несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем". И далее, процитировав стихов творение Клычкова "Мельница в лесу", в котором изображалась древняя сельская идиллия, Ширяевец восклицал: "И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь "Гранд-отель", а потом тут вырастет город с фабричными трубами"*. Это письмо А. Ширяевца является достаточно откровенным свидетельством того, чем руководствовались "крестьянские" поэты в своем творчестве. Вчерашний день России целиком поглощал их внимание, вызывал их восторг и умиление. Это была позиция неприязни к современности и к тем историческим закономерным переменам, которые наступали в жизни русского крестьянства.
* ("Современные записки", 1926, т. XXVII, стр. 318.)
Это и приводило многих "крестьянских" поэтов к открытой враждебности к городу и рабочему классу.
Итак, в литературе 20-х годов вопрос о крестьянстве и революции, о городе и деревне стоял необыкновенно остро. Тогда же обозначились различные, противоположные тенденции в подходе к этой теме, в ее художественной разработке. Наиболее заметной здесь была разница между писателями, связавшими свое творчество с делом революции, и теми "мужиковствующими" поэтами, которые выражали настроения наиболее отсталой части крестьянства, а иногда и активный протест социалистическому переустройству деревни.
Только с учетом этих противоборствующих сил в литературе 20-х годов можно понять позицию Есенина, который оказался в "узком промежутке" между этими двумя лагерями. Но его позиция не была неподвижной. Она менялась под воздействием самой действительности, по мере того как поэт все более пристально всматривался в нее, стремясь постигнуть "коммуной вздыбленную Русь".
В каком бы жизненном водовороте ни оказывался Есенин, в какой бы обстановке ни протекали его дни, он никогда не терял внутренней связи с деревней, с крестьянством. Он называл себя "села давнишним жителем", "мечтателем сельским". "Есенин часто упоминал, что он происходит из крестьян, он гордился этим"* - вспоминал Ю. Либединский. Заполняя анкеты, на вопрос "социальное происхождение" он неизменно отвечал: "крестьянин". Его поэтические думы о деревне были глубоко личными.
* ("На литературном посту", 1926, № 1, стр. 33.)
В стихах Есенина о советской деревне сравнительно мало конкретных картин или зарисовок деревенской жизни, быта крестьянства. Главное в этих стихотворениях - раздумья и размышления поэта о своей собственной судьбе.
В первый же год революции, когда Есенин создавал поэму "Инония", полную привязанности к стародеревенскому укладу и патриархальных иллюзий, в его творчестве начали звучать другие, тревожные, мотивы, нарушавшие идиллию:
Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...
Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил.
Еще в 1918 году у Есенина появляются стихи, в которых звучит недоверие к мыслям и творчеству Н. Клюева. "Теперь любовь моя не та",- так начинает он стихотворение 1918 года, посвященное Клюеву. Здесь в раздумьях над стихами Клюева содержится и сомнение, и оттенок неверия в тот "мужицкий рай", который рисовал Клюев:
И тот, кого ты ждал в ночи, Прошел, как прежде,- мимо крова. О, друг, кому ж твои ключи Ты золотил поющим словом? Тебе о солнце не пропеть, В окошко не увидеть рая, Так мельница, крылом махая, С земли не может улететь.
В первые годы революции Есенин находится во власти настроений, порожденных крушением старой, уходящей Руси, "Русь" - именно этим исторически первым словом в многовековой истории нашей родины называет он свою страну. Следует заметить, что в те годы слово "Русь" вообще широко употреблялось. Им охотно пользовался такой далеко не архаичный поэт, как Маяковский, писавший в агитационных стихах: "Эй, работай, Русь твоя! Возроди и пользуй!" В статье 1918 года "Главная задача наших дней" В. И. Ленин писал, что Октябрьская революция создала все условия для того, "чтобы создать действительно могучую и обильную Русь". Само употребление Есениным слова "Русь" не может служить доказательством его приверженности к архаике. Дело в том содержании, которое вкладывал он в это слово. В большинстве стихов Есенина первых лет революции оно обозначает старую, дооктябрьскую Русь, старую русскую деревню, с которой поэт духовно связан: писал он в 1919 году в стихотворении "Хулиган".
Русь моя, деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой,-
С того же года эта тема у Есенина не только становится устойчивой, но и приобретает драматическую окраску. Пользуясь ранее найденной системой аналогий и сравнений, поэт рисует наступившую эпоху как "обедню" по старой деревне, а о себе говорит, как о догорающей свече на панихиде. Еще более симптоматично то, что в его стихах появляется мотив, родственный "крестьянским" поэтам,- страх перед железным городом, наступающим на деревню:
Я последний поэт деревни, Скромен в песнях дощатый мост, За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем Из телесного воска свеча, И луны часы деревянные Прохрипят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля Скоро выйдет железный гость, Злак овсяный, зарею пролитый, Соберет его черная горсть.
В следующем, 1920 году Есенин создает целый цикл стихов на эту тему - "Сорокоуст" (Сорокоуст - поминальная церковная служба по умершим). Здесь открытое и резкое противопоставление деревни городу:
Скоро заморозь известью выбелит Тот поселок и эти луга, Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти от врага. Вот он, вот он с железным брюхом, Тянет к глоткам равнин пятерню. Водит старая мельница ухом, Навострив мукомольный нюх.
Эта тема нарастает, приобретая все более трагические тона:
Идет, идет он, страшный вестник, Пятой громоздкой чащи ломит, И все сильней тоскуют песни Под лягушиный писк в соломе. О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка, Се изб бревенчатый живот Трясет стальная лихорадка.
Завершается тема проклятиями железному городу - "черному гостю", несущему неотвратимую гибель всему близкому и родному:
Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется, Жаль, что в детстве тебя не пришлось Утопить, как ведро в колодце. Хорошо им стоять и смотреть, Красить рты в жестяных поцелуях,- Только мне, как псаломщику, петь Над родимой страной аллилуйя.
Крестьянско-патриархальным испугом веет от этих строк Есенина о городе, в них выражены те представления, согласно которым деревня только трудится и кормит, а город только ест и гуляет.
Как видим, Есенин был недалек от того, что писали о городе и деревне "крестьянские" поэты. Однако нельзя не отметить существенной разницы между Есениным и псевдокрестьянскими поэтами. Эта разница хорошо может быть понята, если мы обратимся к уже упоминавшемуся очерку "Ключи Марии". Именно здесь Есенин впервые после революции касается вопроса о городе и деревне. Вопрос этот возникает в связи с рассуждениями об истоках поэтического искусства и о его будущем.
Поэзия должна опираться на исконные поэтические формы, выработанные устным художественным творчеством русского крестьянства,- таково основное положение есенинского очерка. Поэт высказывает мысль о том, что город ("Железо", "Америка") разрушает древний поэтический мир, рожденный в недрах русского крестьянства и уходящий своими истоками в патриархальную деревенскую старину. Отсюда непримиримо отрицательное отношение поэта к городу и защита деревни со всеми ее традиционными устоями. Говоря о том, что только в русской крестьянской старине кроется "завязь" поэтического искусства, его "тайны", Есенин пишет: "Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железной Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом, на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды" (т. V, стр. 42). Есенин пишет, что революция явилась этому крестьянскому миру, как "ангел спасения к умирающему", но вкладывает в эти слова свой собственный смысл: революция прекратит наступление города на деревню, сохранит ее духовный облик в былой патриархальной неприкосновенности.
Из этого ясно насколько ограниченным, наивно-патриархальным было представление Есенина о целях и задачах революции, о ее значении в судьбе русского крестьянства. Говоря о городе, Есенин имеет в виду город капиталистический, не задумываясь о том, каким будет город в новых социалистических условиях.
Характеризуя взаимоотношение города и деревни в советскую эпоху, В. И. Ленин отмечал, что при капитализме город давал деревне то, что ее развращало политически, экономически, нравственно, и что после Октября город начинает давать деревне прямо противоположное: оказывает ей политическую и экономическую поддержку, помогает ее культурному росту.
В начале революции Есенин был весьма далек от такого понимания новых исторических условий.
"После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе" (там же, стр. 22), говорил он о себе. Этим и следует объяснить затяжную эволюцию Есенина и, в частности, неверное понимание им вопроса о городе и деревне в советскую эпоху.
При всем этом нельзя упускать из виду того, что протест Есенина против "железного города" никогда не был протестом против политики Советского государства в области взаимоотношений города и деревни, рабочего класса и крестьянства. Есенин усматривал в наступлении "железного гостя" угрозу тому поэтическому миру, который, по мнению поэта, целиком был порожден духовной жизнью крестьянства.
Помимо "Ключей Марии", об этом можно судить по самому яркому стихотворению из цикла "Сорокоуст":
Видели ли вы, Как бежит по степям, В туманах озерных кроясь. Железной ноздрей храпя, На лапах чугунных поезд? А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая к голове, Скачет красногривый жеребенок? Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница? Неужель он не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару красивых степных россиянок Отдавал за коня печенег? По-иному судьба на торгах перекрасила Наш разбуженный скрежетом плес, И за тысячи пудов кожи и мяса Покупают теперь паровоз.
Мы видим здесь лишь романтический протест поэта против наступления "железного века", который, как ему кажется, враждебен всему живому. Об этом же можно судить и по следующему письму Есенина, которое служит важным комментарием к приведенному стихотворению: "Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть За уходящее милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического.
Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод - для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни..." (т. V, стр. 139-140).
"Грусть за уходящее, милое, родное" - такими словами определил Есенин состояние, в котором создавался цикл стихотворений "Сорокоуст". Не протест против нового, советского, а печаль об уходящем владеет поэтом. Он чувствует себя настолько привязанным к этому прошлому, что неизбежную гибель его воспринимает как собственную обреченность. Неумение отчетливо понять настоящее, увидеть приметы будущего временами приводят поэта даже к фатализму. Все чаще в его стихах начинает появляться слово "рок", ему мерещится "роковая беда", он пишет об участи поэта: "роковая на нем печать". Временами он готов уйти из жизни, как уходит из нее близкое и дорогое его поэтическому сердцу: "Я хочу под гудок пастуший Умереть для себя и для всех".
Мотив ухода из жизни вместе с прошлым неоднократно повторяется в его стихах 1920-1921 годов (и, может быть, наиболее сильно в одном из них, написанном уже после "Сорокоуста"):
Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею деревни Каменные руки шоссе. Так испуганно в снежную выбель Заметалась звенящая жуть. Здравствуй ты, моя черная гибель, Я навстречу к тебе выхожу! Город, город, ты в схватке жестокой Окрестил нас как падаль и мразь. Стынет поле в тоске волоокой, Телеграфными столбами давясь. Жилист мускул у дьявольской выи, И легка ей чугунная гать. Ну, да что же? Ведь нам не впервые И расшатываться и пропадать...
В этом стихотворении поэт сравнивает себя с затравленным волком, попавшим в окружение "железных врагов".
Мучительные мысли преследуют Есенина. Они до такой степени изнуряют его, что временами порождают безразличное, равнодушное отношение к жизни, желание отвернуться от источника своих страданий. Он пишет в стихотворении "Не жалею, не зову, не плачу..." (1921):
Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце, тронутое холодком, И страна березового ситца Не заманит шляться босиком.
"Нет любви ни к деревне, ни к городу",- восклицает поэт в стихотворении "Не ругайтесь, такое дело..." (1922). Все настойчивее и чаще он начинает говорить о своем внутреннем уходе из мира тех представлений, которыми он жил. Он как бы убеждает себя в необходимости этого:
Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой Надо мною звенеть тополя.
Поэт насильно уводит себя из этого мира, с болью вырывает его из своего сердца.
Так Есенин лишался той точки опоры, которая поддерживала его до определенного времени. И как важно было для него ощутить твердую заботливую руку друга, которая бы не дала оступиться, упасть. Но среди окружавших поэта людей не было такого друга. Среда, в которой он находился, лишь углубляла состояние неуравновешенности. Это была все та же литературная богема, рыскавшая по московским кабакам, вызванным к жизни нэпом.
В 1922 году в докладе на XI съезде партии В. И. Ленин, говоря о политике нэпа как о временном отступлении и отмечая, что во время отступления всегда проявляются настроения пессимизма и уныния, счел необходимым специально указать в этой связи на нездоровые настроения среди части писателей: "У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, "тогда как раньше было чисто, красиво, теперь - торговля, спекуляция". У нас есть целый ряд таких поэтических произведений" (т. 33, стр. 252).
К такого рода поэтическим произведениям можно отнести многие стихи Есенина 1922 года - самого тяжелого и мрачного в жизни поэта года, когда складывался его цикл "Москва кабацкая". "Думается, что в большей своей части "Москва кабацкая" была отзвуком "Стойла Пегаса",- писал человек, заведывавший этим стойлом имажинистов*.
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. 86.)
"Снова пьют здесь, дерутся и плачут" - так начинал Есенин одно из стихотворений этого цикла, рисуя мрачное кабацкое логово, в котором "Чадит мертвечиной над пропащею этой гульбой". Есенин описывает настроения отчаявшихся людей, от которых он себя не отделяет:
Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча. . . . . . . . . Жалко им, что Октябрь суровый Обманул их в своей пурге, И уж удалью точится новой Крепко спрятанный нож в сапоге. . . . . . . . . Нет! Таких не поднять, не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона.
Только такою видел тогда Москву Есенин, не замечая, как "Вторая Москва - вскипает и строится" (В. Маяковский).
Внимание Есенина было целиком поглощено больными впечатлениями от "азиатской стороны - Рассей", которая доживала свои последние дни. Поэту казалось, что вместе с ней доживает свой срок и он. Пессимизмом, неверием в жизнь, безразличием пронизаны такие стихи "Москвы кабацкой", как "Пой же, пой на проклятой гитаре...", "Сыпь, гармоника. Скука... Скука..." и другие.
Страшная кабацкая жизнь захлестнула поэта, обычным для него явлением становятся скандалы. Иногда Есенин пытался спасаться от той дикой оравы "приятелей", которые буквально преследовали его. Как жалоба, звучат его слова в письме, отправленном в марте 1922 года: "Живу я как-то по бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной. Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко" (т. V, стр. 153).
Советская общественность пыталась оказать оздоровляющее влияние на Есенина. После одного из дебошей, устроенных им совместно с "приятелями", советская печать выступила с резким осуждением его поведения, указала ему на недостойный поступок. В газетах "Правда", "Известия", "Рабочая Москва" печатались заметки советских людей, осуждавших поэта. "В семье не без урода" - так называлась одна из них. Состоялся товарищеский суд писателей, который вынес ему строгое общественное порицание. В отчете говорилось: "Резко обрушился на поэтов Демьян Бедный, который возмущенно заявляет, что если у него еще оставалось хорошее чувство к некоторым из обвиняемых поэтов, то их отвратительное поведение на суде окончательно заставляет его смотреть на них с презрением"*.
* ("Рабочая Москва", 1923, 12 декабря.)
Но то, что не было понято Есениным на товарищеском суде, необычайно глубоко переживалось им, когда он оставался наедине с самим собой. "Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист",- с горечью писал поэт в одном из стихотворений 1923 года. В стихах Есенина этого времени мы особенно часто встречаем беспощадное самобичевание, он называет себя "озорным гулякой", "забулдыгой", "скандалистом", "повесой", "хулиганом", "пропащим". Душевная боль и горечь была источником "Москвы кабацкой".
И было бы большим заблуждением считать, что в этом разгуле Есенин находил какое-либо успокоение. Думать так - значит не видеть подлинного драматизма того положения, в котором оказался поэт. Ни в одном стихотворении Есенин не любуется кабацкой обстановкой, окружающими его "пропащими" людьми. Сам поэт назвал кабак "логовом жутким", а его обитателей "чужим и хохочущим сбродом". С внутренним отвращением он пишет обо всем этом, стыдясь своего безволия. И оскорбив женщину страшными словами, которые сорвались с пьяных губ, он, как бы опомнившись и испугавшись собственных слов, восклицает: "Дорогая, я плачу, прости... прости..." Немногим позже, в 1924 году поэт с радостью и надеждой будет говорить одному из знакомых: "Слушай! А ведь я все-таки от "Москвы кабацкой" ушел! А? Как ты думаешь? Ушел? По-моему тоже! Здорово трудно было!"*.
* (Вольф Эрлих. Право на песнь. Л., изд. писателей в Ленинграде, 1930, стр. 93.)
И нет ничего более оскорбительного для Есенина, чем попытки усмотреть в стихах, подобных "Москве кабацкой", основные мотивы его творчества. Но в то же время нельзя, конечно, впадать в другую крайность - не замечать явно упадочных мотивов в творчестве Есенина, делать вид, что их вовсе не было.
Внутренний разлад с самим собой привел его к "Москве кабацкой", и казалось, нет выхода из тупика. Но в конце концов порт нашел в себе силы подняться с этого "дна". И в этом была его большая заслуга перед самим собой и перед новым временем.
Сама советская действительность указывала Есенину на полную несостоятельность занятой им позиции. С окончанием гражданской войны становится еще более ясным, что крестьянство идет за рабочим классом, видя в нем единственного надежного союзника, что город помогает деревне выйти из вековой тьмы. В. И. Ленин говорил в 1924 году, что "диктатура пролетариата в России повлекла за собою такие жертвы, такую нужду и такие лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких никогда не знала история", и указывал в этой связи на то, что "крестьяне безусловно выиграли в России от революции больше, чем рабочий класс. В этом не может быть никакого сомнения" (т. 32, стр. 464 - 465).
В одной из своих работ Ленин, говоря о революционной мечте, целиком соглашался со словами Писарева о том, что, "когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно" (т. 5, стр. 476).
Романтические мечты Есенина об уходящей Руси вступали в неизбежное противоречие с эпохой. Он сам чувствовал это и неоднократно имел возможность убедиться в этом. Так, В. Кириллов вспоминает о выступлении Есенина перед рабочей аудиторией, где он читал стихотворение "О, Русь, взмахни крылами...", в котором сильно звучал "крестьянский" уклон. "Читал хорошо, но стихотворение по своей теме осталось чуждым рабочей аудитории, она вяло реагировала на чтение, и когда поэт окончил, раздались весьма жидкие хлопки. Есенин был смущен холодным отношением и, прочитав еще одно стихотворение, ушел за кулисы"*. А вот другое свидетельство современника: "Никогда не забуду того вечера в Политехническом музее, когда был освистан Есенин за своего "Сорокоуста". Публика забыла культурные привычки и обратилась в дикое, ревущее стадо. После первых десяти строк поэта начался гвалт, шиканье, и продолжалось это не менее получаса"**
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. 171.)
** (И. Розанов. Есенин и его спутники. В сб.: "Есенин", М., "Работник просвещения", 1926, стр. 87.)
В неблагополучии занятой позиции Есенин мог убедиться и обратившись к печатным отзывам о своих произведениях. В одной из рецензий на его сборники говорилось: "Вообще автор умиляется перед деревенскими картинами, хорошо знает изображаемый быт, но рисует его без всяких перспектив, довольствуясь тем, что было, как будто бы в деревне совершенно ничего нового не произошло за все время революции"*. В 1922 году, когда подводились итоги развития советской литературы за первое пятилетие, Н. Асеев выступил с большой статьей, посвященной "крестьянским" поэтам, "Избяной обоз (о "пастушеском" течении в поэзии наших дней)". Н. Асеев писал о консерватизме Клюева, Есенина и Клычкова, которые преднамеренно отгораживают свое творчество от современной городской культуры. Среди этих поэтов "сельской ориентации" Асеев особо отмечал Есенина : "как наиболее даровитого, дееспособного", стихи которого: "часто свидетельствуют о подлинно свежем поэтическом даровании, но еще чаще - о насильственном отклонении поэта драму и глушь стародавнего, замшелого и заплесневелого быта вчерашнего дня"**.
* ("Книга и революция", 1921, № 7, стр. 65.)
** ("Печать и революция", 1922, № 8, стр. 39.)
Мог ли Есенин пройти мимо всего этого, не замечать, как воспринимаются его произведения современниками? Сколько раз говорил он, что жизнь опережает его, что он боится оказаться лишним, остаться где-то в стороне"*,- вспоминает Вс. Рождественский свои беседы с Есениным в 1923 году.
* ("Звезда", 1946, № 1, стр. 109.)
Не случайно кризисное состояние Есенина падает на 1922 год. К этому времени уже совершенно отчетливо определились благотворные результаты новой экономической политики. Особенно значительны они были в области взаимоотношений между городом и деревней. Замена продразверстки продналогом, обеспечение деревни промышленными товарами, материальная и культурная помощь деревне со стороны города - все это было последовательным развитием того "военного союза" (Ленин), который установился между рабочим классом и крестьянством еще в годы гражданской войны. В условиях мирного времени этот союз еще более окреп, приняв форму смычки между городом и деревней. В начале 20-х годов лозунг "смычки" становится одним из самых популярных в стране, он входит в сознание народа как одно из основных условий самого существования советского государства.
Есенин, который с таким пристальным вниманием следил за жизнью деревни, не мог не заметить этих перемен. В самом Есенине наступали перемены, тогда же обратившие на себя внимание. Обладавший острым чутьем революционного поэта, Маяковский замечал: "Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами..."
И по мере того как Есенин, хотя и с провалами, но все же освобождался от прежних предрассудков, он все дальше отходил от "мужиковствующих" и все ближе становился к тем советским писателям, которые верно понимали современность, схватывали в ней основное, характерное, устойчивое.
Если пользоваться словами Есенина о его "крестьянском уклоне", то можно сказать, что он шел не под уклон, а преодолевал его, хотя это и нелегко было поэту.
И, может быть, первым признаком начавшихся в Есенине перемен был тот знаменательный факт, что именно в 1922 году произошел его окончательный разрыв с Клюевым.
Даже Иванов Разумник, прилагавший немало усилий для того, чтобы сблизить Есенина с Клюевым, вынужден был признать: "В пути Клюева не верит теперь Есенин, не верит в мужицкий избяной рай с солодягой и "ржаным Синаем". Естественно, и сам Клюев уловил охлаждение к нему Есенина. Некогда восторженное его отношение к "рязанскому отроку" сменяется нападками. Сборник стихотворений Клюева 1922 года "Четвертый Рим" без преувеличения можно назвать "антиесенинским". В нем Клюев "отлучает" Есенина от своей дремучей веры и отрекается от него. Взяв эпиграфом к этому сборнику есенинские строки: "А теперь хожу я в цилиндре и в лаковых башмаках", Клюев, увидевший в этом измену поэта деревне и его приверженность к городу, выкрикивает проклятия: "Не хочу укрывать цилиндром Лесного черта рога", "Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души", "Не хочу быть лакированным поэтом С обезьяньей славой на лбу", "Анафема, Анафема вам Башмаки с безглазым цилиндром" и т. п.
Это нарочитое кликушество вызвало у Есенина лишь раздражение. Он написал Иванову-Разумнику в марте 1922 года: "Рим" его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы". Никогда так брезгливо не говорил Есенин о Клюеве. Теперь ему нестерпимо позерство Клюева, разыгрывающего из себя благочестивого наставника, скрывшегося в своей Вытегре от мирской суеты, живущего в каком-то выдуманном, несуществующем мире: "Не знаю, какой леший заставляет сидеть его там? Или "ризы души своей" боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть: отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к Богу. Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит" (т. V, стр. 151, 152).
Двумя месяцами позже Есенин пишет Клюеву письмо, в котором нет и следа былой "братской" привязанности. "Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо",- обращается к нему Есенин. Он сообщает о том, что готов оказать Клюеву материальную помощь ("С этой стороны, я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни"), чем, собственно говоря, письмо и ограничивается. В более мягкой форме, чем в письме к Иванову-Разумнику, но тем не менее достаточно определенно, он пишет здесь о сборнике "Четвертый Рим". "Вещь мне не понравилась: неуклюже и слащаво. Ну, да ведь у каждого свой путь" (там же, стр. 155).
То, что выражал Есенин в этих письмах, прорывалось наружу и в его стихах. Теперь его строки о Клюеве звучат лишь иронией и насмешкой:
И Клюев, ладожский дьячок, Его стихи, как телогрейка, Но я их вслух вчера прочел - И в клетке сдохла канарейка.
Так, без сожаления расстался Есенин с тем, кого он в годы своей юности принял за родного брата.
"Дружбу с Клюевым он вспоминал как мрачную полосу"*,- свидетельствует один из мемуаристов. Знаменательна надпись Есенина на книге, подаренной А. Ширяевцу в начале 1923 года: "Я никогда не любил Китежа и не боялся его, нет его и не было так же, как и тебя, и Клюева. Жив только русский ум, его я люблю, его кормлю в себе, поэтому ничто мне не страшно, и не город меня съест, а я его проглочу (по поводу некоторых замечаний о моей гибели)"**.
* (М. Бабенчиков. Есенин. В сб.: "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 42.)
** (В статье Д. Благого. "Красная новь", 1926, № 2, стр.206.)
Как видим, вспоминая Клюева, Есенин снова заговаривает о городе, но без былой боязни "железного города", ожидания гибели от него. Эта перемена становится заметной и в его стихах.
"Бешеный пыл" Есенина к старозаветной деревне сменяется попыткой более спокойно разобраться в происходящем.
Я усталым таким еще не был. В эту серую морозь и слизь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая жизнь,-
так начинал он одно из стихотворений 1923 года. Он раздумывает над наступившими переменами, и они не вызывают в нем чувства сопротивления, хотя поэт и подтверждает свою прежнюю любовь к деревенским просторам:
И теперь даже стало не тяжко Ковылять из притона в притон,- Как в смирительную рубашку, Мы природу берем в бетон. И во мне, вот по тем же законам, Умиряется бешеный пыл. Но и все ж отношусь я с поклоном К тем полям, что когда-то любил.
Есенин начинает понимать, что бетон, в который одевается страна,- это конкретное выражение строительства социализма. В то же время "бетон" - символическое обозначение наступающей новой жизни, предначертанной Лениным. В отрывке из неоконченной поэмы "Гуляй-поле" (1924) Есенин, говоря о том, что Ленин "повел нас всех к истокам новым", пишет:
Его уж нет! А те, кто вживе, А те, кого оставил он, Страну в бушующем разливе Должны заковывать в бетон. Для них не скажешь: "Ленин умер!" Их смерть к тоске не привела. . . . . . . . . Еще суровей и угрюмей Они творят его дела...
Постепенно Есенин втягивается в спор с самим собой, начинает опровергать то, что утверждал еще недавно. Весьма показательно его стихотворение "Письмо деду" (1924), в котором можно заметить прямо противоположное тому, о чем он писал в "Сорокоусте". Еще недавно желто-гривый жеребенок, пытавшийся обогнать паровоз, был дли Есенина "дорогим вымирающим образом деревни", рождал в нем "грусть за уходящее милое, родное, звериное" и вызывал его ненависть ко всему "железному", "механическому", воплощавшемуся в паровозе. Теперь в "Письме деду" Есенин вспоминает дедовское "проклятие силе паровоза", его слова о том, что "город - плут и мот", и спорит с дедом: "едва ли так, едва ли". Он убеждает его отказаться от предрассудков, понять неоценимое преимущество техники и зовет деда приехать на "стальном коне":
Тогда садись, старик, Садись без слез, Доверься ты стальной кобыле. Ах, что за лошадь, Что за лошадь паровоз! Ее, наверное, В Германии купили. . . . . . . Я знаю - Время даже камень крошит... И ты, старик, Когда-нибудь поймешь, Что, даже лучшую Впрягая в сани лошадь, В далекий край Лишь кости привезешь.
Так, в противоположность былой привязанности к неподвижности деревенской жизни у поэта появляется ощущение движения времени, стремление не отстать от него.
Теперь он пишет о людях, навсегда привязанных к былому: "заплесневела кровь их", "они в самих себе умрут".
Все глубже задумываясь над происходящим в стране, Есенин жадно прислушивался к спорам и суждениям о путях советской деревни. Ю. Либединский вспоминает, как в присутствии Есенина один из собеседников "точно грозил нам деревней; он говорил, что она является той силой, которая погубит пролетарскую диктатуру. Есенин время от времени перебивал наш разговор вопросами, по которым можно было догадываться о том, что его больше всего интересует: что придется испытать крестьянину при переходе к социализму, насколько мучительно на нем будут отзываться все эти процессы перехода, как он внутренне будет изменяться"*.
* ("На литературном посту", 1926, № 1, стр. 33.)
Ответы на эти вопросы советская литература дала несколько позже в замечательном романе М. Шолохова "Поднятая целина", в произведениях Ф. Панферова ("Бруски"), Н. Шухова ("Ненависть"), М. Исаковского ("Поэма ухода"), А. Твардовского ("Страна Муравия").
В первой половине 20-х годов Есенин далеко не сразу приходил к пониманию того, что деревня должна меняться. Его постепенно убеждала в этом сама действительность, жизнь современной деревни, в которой еще сильны были пережитки прошлого. Он хорошо видел это, посещая родные места, с болью говорил о темных сторонах крестьянской жизни.
"Рассказывает про споры стариков из-за копеечной свечки, про грязь, некультурность, отсталость деревни.
- Ну, нельзя, нельзя так дальше. Советская власть должна что-нибудь сделать. Так жить нельзя,- говорит он.
Разговор явно переходит к вопросам политграмоты, и Есенин одновременно и радуется, и звонко хохочет, и злится над деревней и жизнью ее"*.
* (Софья Виноградская. Как жил Сергей Есенин. М., б-ка "Огонек", 1926, стр. 13.)
Тягостные впечатления деревенской жизни заставляют Есенина по-иному взглянуть и на город. Он начинает понимать необходимость приобщения деревни к городу, к городской культуре с целью добиться существенных изменений в жизни крестьянства. В. Наседкин вспоминает, что Есенин, вернувшись из родного села, где он побывал на свадьбе двоюродного брата, был подавлен мрачными воспоминаниями. "Он жаловался на боль от крестьянской косности, невежества и жадности. Деревня опротивела ему..."*. Как рассказывает Наседкин, Есенин с радостью вернулся в Москву, где ему еще сильнее бросился в глаза контраст между городом и только что виденной деревней: "Глядя на четкие силуэты городских зданий и словно прислушиваясь к глухому немолчному гулу центральных площадей, Есенин, как будто мечтая о чем-то, заговорил:
* (В. Наседкин. Последний год Есенина (из воспоминаний). М., "Никитинские субботники", 1927, стр. 21.)
- Ну, разве можно сравнить город с деревней. Здесь культура, а там... дунул и пусто" (там же, стр. 25).
Все это уже серьезно отличалось от прежних проклятий "железному городу", от абстрактно-романтического отношения поэта к вековому укладу деревенской жизни. "Он между Клюевым и Маяковским, между старой деревней и городом"*,- писал в это время о Есенине Д. Фурманов.
* ("Вопросы литературы", 1957, № 5, стр. 205.)
Новые настроения находили все более определенное выражение в творчестве Есенина, например в одном из сильнейших его стихотворений 1925 года:
Неуютная жидкая лунность И тоска бесконечных равнин,- Вот что видел я в резвую юность, Что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы И тележная песня колес... Ни за что не хотел я теперь бы, Чтоб мне слушать ее привелось. Равнодушен я стал к лачугам, И очажный огонь мне не мил, Даже яблонь весеннюю вьюгу Я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное... И в чахоточном свете луны Через каменное и стальное Вижу мощь я родной стороны. Полевая Россия! Довольно Волочиться сохой по полям! Нищету твою видеть больно И березам и тополям. Я не знаю, что будет со мною... Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. И, внимая моторному лаю В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес.
Таковы существенные изменения, происшедшие в сознании Есенина. Такова эволюция поэта, смысл которой заключался в постепенном отказе от патриархально-народнических иллюзий, от концепций Иванова-Разумника, от клюевской идеализации старой деревенской жизни. Одновременно это означало приближение Есенина к тем советским писателям, которые стояли на верных позициях в решении такого жгучего вопроса современности, как крестьянство и революция, город и деревня. Есенин в отличие от многих писателей пришел к правильному решению этого вопроса с опозданием, что было связано с мучительным для поэта процессом отказа от старого. И тем не менее он, не теряя своей творческой индивидуальности, втягивался в общее русло советской литературы.
Возникает вопрос: не отразились ли в этой эволюции Есенина раздумья и искания русского крестьянства в советскую эпоху? На этот вопрос можно ответить только утвердительно.
Обратим внимание, что в таких выдающихся произведениях, как "Чапаев", "Железный поток", "Разгром", "Барсуки", советские писатели, изображая процесс революционизации крестьянских масс под влиянием рабочего класса, под влиянием социалистического города, ни в какой мере не скрывали сложность, а иногда и некоторую болезненность этого исторического процесса. Они показывали, как в крестьянской среде далеко не сразу утверждалось доверие к пролетариату, как постепенно зарождалась и крепла дружба между ними, тот военный союз, о котором говорил Ленин.
Приход русского крестьянства к революции, сознательное признание им гегемонии рабочего класса - все это сопровождалось изживанием тех иллюзий, представлений и настроений, которые веками складывались в русском крестьянстве и крушение которых началось еще в период революции 1905 года. Октябрьская революция усилила этот процесс и привела к его завершению.
И мы вправе говорить о том, что эволюция, которая происходила в сознании и творчестве Есенина, была присуща и определенной части русского крестьянства. Есенин выразил этот процесс по-своему: в его стихах центральное место заняла тема города и деревни, что объяснялось промежуточным положением поэта. Как указывалось, он механически переносил противоречия между городом и деревней в капиталистическом обществе на новое общество, рожденное Октябрем. Но разве в русском крестьянстве такой уж незначительной была та его часть, которая в первые годы революции подобным же образом смотрела на город и деревню?;
Известно, что в 1918-1919 гг. определенная часть крестьянства находилась под влиянием эсеров, заманивавших ее лозунгами о "всеобщей демократии", о "всеобщем равенстве", о "чистой демократии" и т. п. В. И. Ленин неоднократно вскрывал контрреволюционное содержание Этих лозунгов в условиях свершившейся пролетарской революции. И именно в этой связи он касался вопроса о городе и деревне. Так, в одной из своих речей, разоблачая эсеровскую демагогию о "чистой демократии", Ленин указывал, что как при капитализме, так и при переходе от капитализма к коммунизму "город не может быть равен деревне. Деревня не может быть равна городу в исторических условиях этой эпохи. Город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс, из "городских" классов, сумеет вести за собой деревню, осилит эту задачу и какие формы это руководство города примет" (т. 30, стр. 234).
В ту пору, когда произносились эти слова, не каждый крестьянин осознавал их историческую правоту. Творчество Есенина является отражением этого в литературе. И тем не менее крестьянская тема в творчестве Есенина все больше становилась советской темой.
По мере идейной эволюции поэта проблема города и деревни приобретала у него все более широкий смысл, поэт явно стремился расширить рамки вопроса о русском крестьянстве и революции. Об этом говорит его драма в стихах "Страна негодяев", над которой он работал в 1922- 1923 гг., как раз в период своих наиболее глубоких раздумий о деревне и крестьянстве.
Само название этой драматической поэмы требует некоторых пояснений. Есенин задумал ее еще до поездки в Америку. Но американские впечатления поэта внесли в нее свою дополнительную окраску. Вот как об этом рассказывает С. А. Толстая: "Страна негодяев", действие ее должно было перенестись из России в Европу и затем в Америку, где должен был закончить свои дни один из героев пьесы - Номах... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую Нью-Йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке гула и гама сотни и тысячи сделок. "Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков,- говорил Есенин.- Что значат наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она - страна негодяев!"*.
* ("Юность", 1957, № 4, стр. 32.)
Название драматической поэмы - "Страна негодяев" - явилось не сразу. Есенин давал еще и другое название этой вещи - "Номах". "Номах это Махно"*,- пояснял он. Почему же Махно? А все по той же причине, что в эту пору Есенин все чаще и больше задумывался о путях русского крестьянства в революции. Делясь своим замыслом драматической поэмы, Есенин говорил, что она должна "широко охватить революционные события в России с героическими Эпизодами. Главными действующими лицами в поэме должны были быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих "кризисов" первых годов революции"**.
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. 211.)
** (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. 78-79.)
В этом произведении мы встречаемся с весьма острым, занимательным, почти авантюрным сюжетом. Красноармейцы и рабочие везут по железной дороге из глухих мест в Москву большой запас золота. Махно и его сообщники нападают на поезд и совершают ограбление. Начинаются поиски Махно. Разведчики выслеживают махновцев в тайном притоне, Махно бежит в Москву, ловко обманывает 'преследователей и исчезает.

Сергей Есенин (справа) с поэтом Василием Казиным. 1923

Обложка сборников стихотворений Сергея Есенина
Но главное совсем не в этих эффектных событиях. Важен историко-социальный, философский план произведения. Хотя события и развиваются весьма динамично, но основное не в действии, а в тех рассуждениях и спорах, которые ведут действующие лица, в комментариях автора. В центре - два лица: Номах (Махно) и комиссар Рассветов. Это антиподы. Они даже не встречаются, но именно между ними идет философский спор.
Номах - олицетворение анархического, стихийного начала. По словам одного из персонажей, "свора острожная и крестьянство любят Махно". В Номахе Есенин подчеркивает не черты бандита, а черты анархиста-философа.
Я ведь не такой, Каким представляют меня кухарки. Я - весь кровь, Мозг и гнев весь я. Мой бандитизм особой марки, Он осознание, а не профессия,-
с гордостью говорит о себе Номах. Чтобы еще сильнее подчеркнуть, что Номах не бандит, Есенин показывает его сообщника Барсука, законченного бандита, легко проливающего кровь, жаждущего обогащения. Номах очищен от всего этого: он сожалеет об убийстве комиссара и красноармейца, не стремится к богатству. Как ни странно, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что для Номаха характерны настроения самого Есенина. Он говорит о себе: "Я потерял равновесие",- и далее следует его монолог, так напоминающий лирику Есенина:
Веселым парнем, До костей весь пропахший Степной травой, Я пришел в этот город с пустыми руками, Но зато с полным сердцем И не пустой головой.
И уже совсем в духе покаянных стихов Есенина:
Теперь, когда судорога Душу скрючила, И лицо как потухающий фонарь в тумане, Я не строю себе никакого чучела. Мне только осталось - Озорничать и хулиганить.
Впечатлепие это еще более усиливается, если иметь в виду уже приводившееся письмо Есенина, в котором он рассказывал о том, как был свидетелем попытки жеребенка обогнать паровоз. Вслед за описанием этой сцены следует такой текст: "Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и лика Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка "тягательством живой силы с железной" (т. V, стр. 140).
Письмо это писалось в год создания "Сорокоуста" (1920). В "Стране негодяев" мы находим следы тогдашних настроений поэта ("Махно - жеребенок"), но нельзя не заметить в этом произведении и другого - иной политической позиции Есенина, политической характеристики Махно.
Номах хочет награбленное золото пустить на покупку оружия, просить помощи у панской Польши и двинуть на большевиков танки. Это существенно меняет дело, Махно уже не выглядит безобидным "жеребенком". Сказав это о Махно-Номахе, Есенин, естественно, стал перед вопросом о своем отношении к нему. И есть все основания говорить о том, что Есенин комментирует действия Махно устами комиссара Рассветова.
Знаменательно уже то, что Номаху и его сообщникам противостоит комиссар Рассветов, возглавляющий красногвардейцев и вооруженных рабочих. И если Номах находится в состоянии внутренней растерянности, лишен перспективы существования и его позиция сводится к тому, что он "озорничает и хулиганит", то уже сама фамилия комиссара Рассветова свидетельствует, что он олицетворяет наступающий новый день России.
Рассветов - человек большого жизненного опыта (старый революционер, скрывался в Америке), государственного ума, мыслящий историческими категориями.
Сравнивая Советскую Россию с Америкой, Рассветов говорит, что Россия богаче Калифорнии и что ей не страшна блокада, главное: "Только работай! Только трудись!". Для Рассветова советская власть - символ возрождения России:
Вся Америка - жадная пасть. Но Россия... вот это глыба... Лишь бы только советская власть!
Он страстно возражает тем, кто видит в России только отсталую крестьянскую страну, он уверен, что Советская Россия обгонит Америку, но для этого ее нужно сделать "железной". А пока "Вся Россия - лишь ветер да снег". Он говорит о старой деревянной России:
Здесь все дохли в холере и оспе. Не страна, а сплошной бивуак. Для одних - золотые россыпи, Для других - непролазный мрак. И кому же из нас не знакомо, Как на теле паршивый прыщ, Тысчи лет из бревна и соломы Строят здания наших жилищ. 10 тысяч в длину государство, В ширину около верст тысяч трех. Здесь одно лишь нужно лекарство - Сеть шоссе и железных дорог. Вместо дерева нужен камень, Черепица, бетон и жесть. Города создаются руками, Как поступками слава и честь.
Рассветов убежден, что превращение страны в "стальную" положит конец разрухе, анархии, бандитизму. Это и есть его заочный философский спор с Номахом-Махно, порожденным именно "непролазным мраком" старой крестьянской России, анархией и стихийностью.
Мы видим, тема железного города и отсталой деревни в "Стране негодяев" тесно связана с решающими политическими проблемами современности. Есенин целиком на стороне комиссара Рассветова, которого не может опровергнуть ни один из спорящих с ним. Все, что делает Рассветов, он делает ради того, "Чтоб чище синел простор Коммунистическим взглядом". В этих словах заключен тот окончательный вывод, к которому пришел Есенин после долгих раздумий.
Невольно приходит на память автор "Думы про Опанаса". Иными, чем у Есенина, были колебания Э. Багрицкого. По-своему преодолевал их этот оригинальный поэт. Но интересно, что в "Думе про Опанаса" он тоже ставит вопрос о крестьянстве и революции и тоже не случайно в его произведении появляется Махно, которому противопоставлен комиссар Коган. Поэт показал, как, оказавшись против своей воли в лагере Махно, крестьянин Опанас пошел против революции и бесславно погиб. Багрицкий закончил поэму признанием великой исторической правоты того дела, за которое боролся комиссар, и заявил о своей полной солидарности с ним.
Так и Есенин в своих скитаниях пришел к комиссару Рассветову. "Страна негодяев" как бы застает своего автора в пути. Прежние чувства заставляют его временами оборачиваться назад, но он уже понял умом великую правоту комиссара Рассветова, и это сильнее его былой привязанности к ветхозаветной деревне. Это был выход из мучительного состояния раздвоенности.
Уже говорилось о том, что сама советская действительность оказывала воздействие на поэта, помогала ему найти верный путь. Было и еще одно обстоятельство, сыгравшее определенную роль в идейной эволюции Есенина,- его длительная заграничная поездка, связанная с событиями личной жизни поэта.
В 1921 году во время своего пребывания за границей А. Луначарский имел беседу с американской танцовщицей Айседорой Дункан, слава которой облетела весь мир. Дункан (1878-1927) была зачинательницей новой школы танцев, возрождавшей хореографические традиции Древней Греции с их культом физической гармонии, свободных движений, пластической гимнастики. Она предложила А. Луначарскому организовать танцевальную школу в Москве, полагая, что самый дух свободного античного танца отвечает настроениям, господствующим в Советской России. Ее предложение было принято, и в 1921 году Дункан прибыла в Москву. "По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир. Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я верила, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, отчаявшегося в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма...
Прощай, старый мир! Привет тебе, мир новый"*,- так описывала свое настроение Дункан.
* (Айседора Дункан. Исповедь. Рига, 1928, стр. 259.)
Ее школе был отведен один из просторных московских особняков. Она с энтузиазмом взялась обучать молодежь античному танцу, начала разрабатывать хореографическое воплощение таких тем, как "Красное Знамя", "Интернационал". Можно не сомневаться в искренности тех побуждений, которые привели Дункан в Советскую Россию. Вот отклики на ее пребывание в нашей стране: "Она многое могла понять в России. В том подходе к задачам искусства, в том масштабе, с которым она эти задачи ставит, есть нечто от духа и масштаба России, Великой Революции". "Айседора Дункан поехала в Россию потому, что видела, как негармонична, немузыкальна в существе своем культура пережившей войну и недожившей до революции Европы". "Народам нужны танцы, а отсутствие вкуса у правительств Запада заставляло ее искать людей с иными вкусами, с иным сознанием, с другими горизонтами". "Теперь, после 10 месяцев жизни в голодной, истерзанной и нищей России, она уехала из нее с еще большей верой в нее, с еще большим ожиданием, с сознанием, что в нищей России творится новая народная душа, созвучная высшим мечтаниям всего мира - им близкая, понятная и нужная"*.
* ("Накануне", 1922, 14 мая.)
Айседоре Дункан сравнительно нетрудно было привыкнуть к московской обстановке, так как до этого она уже дважды побывала в России с гастролями: в 1905 и в 1913 гг., была знакома с некоторыми русскими артистами и художниками, в том числе со Станиславским. И на этот раз Дункан быстро сошлась с деятелями искусства, в среде которых осенью 1921 года она встретилась с Есениным. Они быстро сблизились.
О взаимоотношениях Есенина и Дункан сохранилось немало воспоминаний. Большинство из них говорит о взаимной искренности обоих. "По всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь"*,- писал С. Городецкий. Дункан была весьма внимательна к Есенину, заботилась о нем. В одном из ее писем по поводу Есенина читаем: "Не думайте, что во мне говорит влюбленная девчонка, нет, это преданность и материнская заботливость"**
* ("Новый мир", 1926, № 2, стр. 142.)
** (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. 25.)
Ко времени их встречи Дункан была чуть не вдвое старше Есенина. Это, конечно, не могло не отразиться на их отношениях. Были и другие обстоятельства, говорившие о ненадежности их быстрого сближения: Дункан не говорила по-русски, Есенин не знал ни одного европейского языка. Кроме того, слишком разными были и их жизненные взгляды и привычки. Все это вместе взятое невольно создавало впечатление некоторой неестественности их совместной жизни. Вот как выразил Горький свое впечатление от встречи в Берлине с Есениным и Дункан, которая исполняла свои танцы:
"Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.
Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.
Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Здесь нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!"
(т. 17, стр. 60-61)
Есенин расстался с Дункан осенью 1923 года. В последнем письме к Дункан он писал: "Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью к тебе"*. Узнав за границей о смерти поэта, Дункан писала в телеграмме: "Прошу Вас передать родным и друзьям Есенина мое великое горе и сочувствие"**. В 1927 году в Ницце Дункан трагически погибла в гоночном автомобиле (она была Задушена собственным шарфом, конец которого запутался в колесе).
* (Архив Есенина, ЦГАЛИ, фонд 190, опись 1, ед. хр. 97.)
** ("Вечерняя Москва", 1926, 3 января.)
Встреча Есенина с Дункан и послужила причиной его заграничной поездки. Отправившись в турне по Европе и Америке, Дункан пригласила с собой Есенина. 10 мая 922 года они вылетели самолетом в Германию.
Очевидно, для того чтобы легче получать визы у заграничных чиновников, Есенин и Дункан, будучи уже мужем и женой, вынуждены были "вторично" вступить в брак за границей. Есенин писал 21 июня 1922 года из Висбадена: "Изадора вышла за меня замуж второй раз, и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина".
Поездка оказалась для Есенина весьма беспокойной. Как жалоба, звучат его слова: "Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть... Она же как ни в чем не бывало скачет па автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии - истерика" (т. V, стр. 156- 57).
Первые заграничные впечатления Есенина можно назвать впечатлениями политическими. Еще в Москве он отлично понимал, что за границей ему не избежать встречи русскими эмигрантами. И он внутренне готовился к тому. "Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:
- Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?
- А ты руки ему не подавай! - отвечает Сахаров.
- Я не подам руки Мережковскому,- соглашается Есенин: я не только не подам ему руки, но я могу сделать более решительный жест"*.
* (И. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве (воспоминания). М., 1927, стр. 12.)
13 мая в Берлине в русском клубе "Дом искусств", который посещался различно настроенными русскими эмигрантами, состоялось первое выступление Есенина, которое вызвало немалый переполох.
Появившись в клубе, поэт сразу же потребовал пения "Интернационала", без чего не соглашался приступить к чтению стихов. В ответ раздались возмущенные крики и свист. Тогда Есенин запел "Интернационал", ему подтягивали сопровождавшие его Дункан, поэт Кусиков и несколько человек "сочувствующих" из публики. Берлинская сменовеховская газета "Накануне" так излагала этот эпизод: "Группа вдохновенно профальшивила "Интернационал"... Свистки нарастали... Есенин вскочил на стол и стал читать... И свистки смолкли. Оправдан был вызов поэта, брошенный свистунам:
- Все равно не пересвистите. Как заложу четыре пальца в рот и свистну - тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет"*.
* ("Накануне", 1922, 14 мая.)
Один из свидетелей этой сцены вспоминает: "Он [Есенин] кричал об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт... Возле него волновался Ю. М. Минин. Но все стихло внезапно, когда Есенин начал читать стихи. Он читал лирику, стоя на стуле"*.
* (Роман Гуль. Жизнь на фукса. М.- Л., ГИЗ, 1927, стр. 213.)
Белоэмигрантская пресса не замедлила отозваться на это "скандальное" выступление Есенина, объявив поэта "агентом большевиков", подосланным с целью агитации. Есенин писал из Берлина: "В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха... Все думают, что я приехал на деньги большевиков как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции" (т. V, стр. 161). "Я знаю, что вообще-то в эмиграции очень недолюбливают "российского скандального пииту", как он сам себя называет, и склонны его целиком со всеми скандалами ставить на счет Советской России"*,- писал один из сменовеховцев, хорошо знавший внутреннюю жизнь эмиграции. По свидетельству Вс. Рождественского, сам Есенин так комментировал свои выступления в Берлине и в других городах Европы: "Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: "Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил". И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал "Интернационал", а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными "шестерками"** И так продолжалось в течение всей поездки по Европе. Поэт так выражал свои впечатления от встреч с разного рода антисоветскими элементами: "Где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над советской страной вынести не мог. И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил"***.
* ("Воля России", 1925, № 9-10, стр. 113.)
** ("Звезда", 1946, № 1, стр. 108 ("шестерка" - пренебрежительная кличка официанта).)
*** (А. Воронский. Памяти Есенина (из воспоминаний). "Красная новь", 1926, № 2, стр. 211.)
Так Есенин с честью выдержал испытание, показал себя подлинно советским гражданином, хотя форма его борьбы за Советскую Россию носила весьма своеобразный, чисто "есенинский" характер.
Есенин не только "скандалил" за советскую власть, но вступал и в более или менее спокойные дискуссии на политическую злобу дня, как это было в том же Берлине при его случайных встречах с лидерами белой эмиграции. "Есенин спорит с Ключниковым об изъятии церковных ценностей. Вопрос тогда был моден. И Есенин был за изъятие"*,- писал один из свидетелей этого спора.
* (Роман Гуль. Жизнь на фукса. М.- Л., ГИЗ, 1927, стр. 218.)
Встречи лицом к лицу с врагами советского строя обострили политическое зрение Есенина, сделали его еще более непримиримым противником тех, кто предал Родину и оказался в лагере ее самых злобных врагов. Когда-то Есенин посещал салон Мережковского и Гиппиус. Интересен его отзыв о них после встречи с белоэмиграцией. Сохранился черновой набросок статьи Есенина, написанной вскоре после возвращения на Родину "Дама с лорнетом! Вроде письма (на общеизвестное)". Здесь Есенин вспоминает историю взаимоотношений со своими бывшими "покровителями", рисует их современный портрет. "Когда-то я мальчиком, проезжая Петербург, зашел к Блоку... После слов Блока, к которому я приехал впервые, я стал относиться к Мережковскому и Гиппиус подозрительней". Переходя к современности, Есенин записывает: "В газете "Ecler" Мережковский назвал меня хамом... Потом Мережковский писал: альфонс, пьяница, большевик! А я отвечал устно - "дурак, бездарность". Обращаясь к Гиппиус, он пишет: "Лживая и скверная Вы. Все у Вас направлено на личное влияние". Он вспоминает, как когда-то Гиппиус внушала ему, что для писателя безразлично, какую позицию он занимает, левую или правую ("Это безразлично, раз он художник"), и так реагирует теперь на это: "Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь. Это суждение к нам не подходит. Дорога Ваша ясна с Вашим игнорированием нас (хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные). Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию" (т. V, стр. 83-84). Так обострилось политическое зрение поэта.
Вдали от Родины Есенин чувствовал себя тоскливо и одиноко. "Здесь скучно дьявольски",- писал он из Брюсселя в июле 1922 года, через два месяца после отъезда из Москвы. А в Париже, куда он прибыл в конце августа, его охватила острая тоска о родных российских местах.
В Италии (Рим, Венеция, Сорренто) самое яркое впечатление на Есенина произвела его встреча с М. Горьким, который очень тепло принял поэта.
В письмах Есенина, отправленных из Европы в Москву летом 1922 года, главное - это сравнение Западной Европы с Советской Россией. В одном из них он писал: "Что сказать мне Вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я еще пока не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать - самое высшее музик-холь. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно". "Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод... зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину" (т. V, стр. 159).
Пребывание в Европе помогло Есенину увидеть в Советской России больше, чем он видел раньше: "Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию,- писал он.- Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни... Там, из Москвы, нам казалось, что Европа - это самый обширнейший район распространения наших идей в поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия, в этом смысле. Кажется, нет такой страны и быть не может" (там же, стр. 160). Эти впечатления Есенина можно сопоставить с кратким выводом Маяковского, также выезжавшего в 1922 году за рубеж нашей страны: "Мораль в общем: зря, ребята, на Россию ропщем".
Вслед за Европой Есенин посетил Америку. Она показалась ему тесной, неуютной и бездушной. Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские "сто тысяч улиц" можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире",- писал он Мариенгофу. Он жалуется на тоску "в этом отвратительнейшем Нью-Йорке", пишет, что здесь никому не нужна душа, "которую у нас в России на пуды меряют". "Боже мой, лучше бы было есть глазами дым, плакать от него, но только не здесь, не здесь... В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски" (там же, стр. 168).
Есенин сам признавался, что мало увидел в этой стране, почти безвыходно живя в одном из отелей Нью-Йорка. Он чувствовал себя усталым, крайне одиноким и никому не нужным. Но его тянуло к людям, хотелось узнать об их жизни, рассказать о своей стране. Вс. Рождественский вспоминает рассказ Есенина о том, как он повстречался с негром, как они разговарились "через пятое в десятое": "Когда человек от души говорит, все понять можно. Он мне про свою деревню рассказывает, я ему про село Константиново. И обоим нам хорошо и грустно. Хороший был человек, мы с ним потом не один вечер так провели. Когда уезжать пришлось, я его все в Москву звал. Приедешь, говорю, родным братом будешь... Обещал приехать. В Америке только он мне и понравился"*.
* ("Звезда", 1946, № 1, стр. 108.)
Пребывание Есенина в Америке не было продолжительным. По его словам, их скоро "попросили обратно". "Сидим без копеечки, ждем, когда соберем на дорогу и обратно в Москву" (т. V, стр. 167),- писал он из Нью-Йорка в ноябре 1922 года. В августе 1923 года Есенин вернулся в Москву. "Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию" (там же, стр. 14).
Сразу же после приезда на родину Есенин опубликовал в "Известиях" очерк "Железный Миргород" с описанием американских впечатлений (он предполагал создать серию очерков о загранице.). Очерк этот содержал довольно мало конкретных фактов, к тому же они мелки и не вызывают интереса. На первом плане - сам поэт, который не прочь полюбоваться собой. Не случайно в "Правде" (1923, № 192) был опубликован фельетон по этому поводу.
И все же в этом очерке заметно то главное, что хотел выразить поэт.
В очерке Есенин затрагивает две темы. Одна из них - отсутствие в Америке интереса к духовным запросам человека:
"Сами американцы - народ тоже примитивный со стороны внутренней культуры.
Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в "бизнес" и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По".
Вторая тема очерка - техническая мощь Америки. "Море электрических афиш", "электрическая газета, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу", громадные подъемные краны на мощных кораблях, их великаньи "железные плечи" - весь этот "реальный быт индустрии" производит сильнейшее впечатление на Есенина.
Говоря о том, что современный город безжалостно вытеснил коренное население Америки - индейцев, живших первобытной жизнью на месте теперешнего Нью-Йорка, Есенин пишет: "Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на нависший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем". От этой мысли Есенин переходит к мысли о "российской реальности", для пейзажа которой пока еще характернее "телега", и пишет по этому поводу: "Когда все это видишь и слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.
Бедный русский Гайавата!".
Нетрудно понять, что под "русским Гайаватой", знакомым только с телегой, уповающим на бога, живущим первобытными обычаями, Есенин подразумевает патриархальное русское крестьянство, сопротивляющееся "индустриальному быту".
Побывав за рубежом, где в те далекие годы техника намного опережала нашу, Есенин почувствовал преимущество высокоразвитой городской индустрии перед скудной жизнью старозаветной патриархальной деревни. Он не обольщался буржуазными приманками, ощущая себя на Западе "большевиком". Тем более его внимание привлекал "индустриальный быт", заставляя снова и снова передумывать вопрос о роли и значении индустрии на Советской Родине. Есенин хорошо понял, что высокая городская техника в условиях Советской России необходима для возрождения русской деревни.
Это новое для Есенина внутреннее состояние стало заметно сразу по возвращении его на родину. В одном из отчетов о выступлении Есенина после заграничной поездки отмечалось: "После доклада Есенин читал свои новые стихи. В них очень чувствуется перелом в психике поэта, уход от деревни и тишины к шуму города..."*. В другом отчете говорилось: "Но все же по докладу можно признать, что поездка произвела сдвиг в мирооощущении поэта... Былая любовь к старой нищей Руси сменилась близостью к городу, к его индустрии и каменным громадам"**. В. Маяковский отмечал, что Есенин вернулся из заграничной поездки "с ясной тягой к новому". Сам Есенин говорил о себе: "После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому" (т. V, стр. 18).
* ("Трудовая копейка", 1923, 25 августа.)
** ("Известия", 1923, 23 августа.)
Это "по-другому" в большой степени означало отказ смотреть на советскую действительность из прошлого патриархальной деревни, окруженной "тоской бесконечных равнин". Теперь в стихах Есенина еще определеннее и громче начинает звучать тема "железной" России. "Через каменное и стальное Вижу мощь я родной стороны",- говорит поэт.
Весьма важно подчеркнуть, что заграничные впечатления ни в какой степени не убедили Есенина в каких-либо преимуществах буржуазного мира. Наоборот, он этот мир возненавидел. Но, наблюдая достижения современной техники в развитых капиталистических странах, Есенин захотел увидеть и свою страну сильной индустриальной державой, а не "деревянной Русью", которую ранее он склонен был романтически идеализировать. Он так писал об этом в "Железном Миргороде":
"Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.
Вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь", как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Русь.
Милостивые государи!
С того дня я еще больше влюбился в наше коммунистическое строительство".
При этом невольно вспоминаются очерки В. Маяковского "Мое открытие Америки" и его стихи "американского" цикла. Политическая близость Есенина к лучшим советским писателям начинает получать в творчестве поэта все более определенное выражение. И не случайно эта крепнущая близость наиболее ярко проявилась в отношении Есенина к такой цитадели капиталистического мира, как Америка. Вскоре после возвращения из-за границы Есенин как-то сказал в своих стихах: "Из книг мелькает лермонтовский парус, А в голове паршивый лорд Керзон". Эти строки кратко, но выразительно говорят о том, что романтические настроения поэта, во многом уходившие в прошлое, начинают испытывать активное вторжение политической современности.
Действительно, как показал его "Железный Миргород", Есенин становится особенно чуток к тем острым политическим проблемам, которые всегда привлекали пристальное внимание зачинателей советской литературы. Ему теперь все более и более дорог социалистический уклад жизни, он сам ощущает все большую свою близость к Советской России. "Пусть я не близок к коммунистам как романтик в своих поэмах,- писал Есенин,- я близок им умом и надеюсь, что буду, может быть, близок и в своем творчестве".
Эти слова оказались не случайно оброненными Есениным. В этом со всей очевидностью убеждают его произведения двух последующих лет - последних лет его жизни.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"