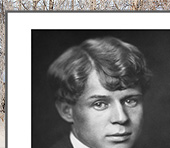


2
В 1919 году в голодной и измученной Москве два предприимчивых работника цирка открыли на Тверской улице кафе поэтов "Стойло Пегаса". Вскоре оно оказалось в руках группы московских поэтов, именовавших себя "имажинистами". Оно стало принадлежать им, превратилось в их клуб, место постоянных встреч и выступлений перед публикой. Вот что писал об этом заведении Д. Фурманов, приехавший весной 1921 года в Москву: "Стойло Пегаса" является в сущности стойлом буржуазных сынков - и не больше. Сюда стекаются люди, совершенно не принимающие никакого участия в общественном движении, раскрашенные, визгливые и глупые барышни, которым кавалеры-поэты целуют по-старому ручки, здесь выбрасывают за "легкий завтрак" десятки тысяч рублей, как одну копеечку: значит, не чужда публика и спекуляции; здесь вы увидите лощеных буржуазных деток - отлично одетых, гладко выбритых, прилизанных, модных, пшютоватых,- словом, все та же сволочь, которая прежде упивалась салонными похабными анекдотами и песенками, да и теперь, впрочем, упивается ими же. В "Стойле Пегаса" - сброд и бездарности, старающиеся перекричать всех, с помощью нахальства дать о себе знать возможно широко и далеко"*.
* (Д. Фурманов. Из дневника писателя. М., "Молодая гвардия", 1934, стр. 70-71.)
Как же могло случиться, что Есенин совершил такой быстрый переход от благочинной скифской епархии Иванова-Разумника в группу имажинистов, отмеченную всеми признаками низкопробной буржуазной богемы? Не было ли это чистой случайностью, мимолетным капризом порта или неожиданным бунтом молодого послушника против опостылевшего настоятеля монастыря?
Нет, в этом не было никакой случайности. Именно на страницах левоэсеровского печатного органа и политически близких ему изданий формировалась эстетическая платформа имажинизма. Именно эти издания в 1918-1920 гг. помогли имажинистам сорганизоваться в определенную группу.
Обратимся к "органу левых социалистов-революционеров (интернационалистов)" - журналу "Знамя", выходившему тогда в Москве (литературным отделом журнала руководил все тот же Иванов-Разумник).
Мы уже знакомы с политической позицией эсеровских изданий. Какова же была их позиция эстетическая? Основной тезис статьи под программным названием "Отделение искусства от государства" заключался в утверждении, что искусство по своей природе "анархично" и что "искусство ие терпит вмешательства в свои дела" (1920, № 1, стр. 47). Далее говорилось, чьего именно вмешательства не терпит искусство: "Современное Советское государство вовсе не отказывается от своих прав обращаться с искусством, как с пластическим материалом, из которого оно вылепляет свои агитационные фигуры" (там же, стр. 50). Здесь велись рассуждения о том, что "государство может и должно упорядочить только экономику" и не имеет права оказывать "давления на истоки творчества", что "очередной лозунг для спасения искусства должен быть - "отделение искусства от государства" (там же, стр. 52). Здесь же можно было встретиться с проповедью внеклассового искусства, стоящего над социальной и политической борьбой. Так, Иванов-Разумник писал: "В пролетарскую культуру" я не верю и таковой не знаю, так нее как не знаю и "культуры буржуазной" (там же, № 5, стр. 42).
Все эти разглагольствования были открыто направлены против политики Коммунистической партии и Советской власти в области культурного строительства. В журнале "Знамя" активно выступили писатели, которые и составили ядро группы имажинистов. Среди них был теоретик имажинизма В. Шершеневич, в прошлом причислявший себя к эго-футуристам. В своей статье "Словогранильня" он обрушился на агитационные стихи В. Маяковского, который, якобы "уперся в болото современности". Он утверждал, что поэзии нужна "победа образа над смыслом и освобождение образа от содержания", что имажинизм как течение "идеалистического миропонимания" именно и занят решением этой неотложной задачи (1920, № 3-4, стр. 44).: Все эти утверждения были анархическим требованием той самой буржуазной "свободы творчества", антинародную сущность которой В. И. Ленин разоблачил еще в 1905 году в статье "Партийная организация и партийная литература". И не случайно имажинисты окопались в ту пору в еженедельнике партии анархистов "Жизнь и творчество русской молодежи". Тот же В. Шершеневич выступил здесь со статьей "Искусство и государство", в которой без конца варьировал все тот же тезис: "Искусство связано и убито слишком большим вниманием государства", "Искусство не может свободно развиваться в рамках государства", "Государству нужно не искусство исканий, а искусство пропаганды", "Государство поддерживает всяких демьянов бедных и так называемых "пролетарских поэтов" и т. д. и т. п. (1919, "№" 28-29, стр. 5). В. Шершеневич провозглашал: "Мы - имажинисты - группа анархического искусства... Да здравствует отделение государства от искусства... Да здравствует диктатура имажинизма!" (там же). В. Шершеневичу вторил А. Мариенгоф, нападавший на первые революционные произведения Маяковского, на его работу в РОСТА: "Маяковский - автор бездарнейшей "Мистерии-буфф" и фельетонных стишков" (там же). От "старших" не отставали и другие имажинисты: А. Кусиков, который признавался позже, что он "долго чуждался Октября; весь ушел в стихи и в себя"*, Р. Ивнев, заявлявший, что "между его поэзией и политикой нет ничего общего"**.
* ("Новая русская книга", 1922, № 3, стр. 45.)
** ("Новости дня", 1918, 22 апреля.)
После прекращения эсеровских и анархистских изданий имажинисты организовали свой журнал с подчеркнуто вызывающим названием "Гостиница для путешествующих в прекрасном", в котором они ни в чем не изменили своей программе. "Граждане, бросьте ваши номенклатуры, претят здравому человеку этикетки: левый фронт, etc, etc. Бросьте: где правые? где левые? где революция? где контрреволюция? Применительно к поэзии эти определения нуль",- говорилось в журнале (1922, № 1). В "Гостинице..." велись ожесточенные атаки на лучших представителей советской поэзии, связавших свое творчество с делом революции. Здесь продолжали издеваться над Д. Бедным, Маяковским, Асеевым.
Таково было лицо имажинистов, среди которых оказался Есенин после разрыва со "скифами". Он подписывает их "декларации", в которых крикливо провозглашалось: "Нам смешно, когда говорят о содержании искусства", "Тема, содержание - это слепая кишка искусства", "Мы...- кто чистит форму от пыли содержания", "Образ и только образ"* и т. п. Вместе с имажинистами Есенин выступает в журналах "Знамя", "Жизнь и творчество русской молодежи", "Гостиница для путешествующих в прекрасном".
* ("Сирена", 1919, № 4-5.)
Влияние этой новой среды не замедлило сказаться. И прежде всего оно отразилось в том, что сбитый с толку имажинистами Есенин начинает вслед за ними повторять проповеди аполитичного и безыдейного искусства. То бодрое революционное настроение, которое было характерно для таких его послеоктябрьских стихотворений, как "Кантата", "Небесный барабанщик", отходит на задний план. Совсем в духе В. Шершеневича он начинает вдруг говорить о нетерпимости "марксистской опеки в идеологии сущности искусства" ("Ключи Марии") и вместе с другими имажинистами пропагандирует пресловутую "свободу творчества" и "чистое искусство". Вот одно из выступлений Есенина в компании имажинистов при обсуждении доклада В. Брюсова о современной поэзии в сентябре 1920 года: "В прениях поэт Грузинов утверждал, что имажинисты - "исходная точка наступающего ренессанса". Другой имажинист, С. Есенин, среди шума аудитории, аплодисментов и голосов "Долой!!!" выкрикивал такие фразы: "Мы пришли великие обнажатели человеческого тела", "Старые писатели примазывались к властям - сейчас больше примазываются", "Нельзя свободно написать ни одной строчки, относящейся к искусству,- дай политику" и т. п. Вообще имажинисты отстаивали "независимость" литературы, как будто они этой независимостью не пользуются, говорили о "чистоте искусства", отрицая всякое проявление политических взглядов и настроений в поэзии..."*.
* ("Грядущее", 1920, № 11, стр. 16.)
Так имажинизм начал уводить Есенина от революционного искусства. А что же он предлагал взамен?
В одной из рекламных брошюр, выпущенных издательством "Имажинисты", В. Шершеневич был представлен как "человек-кукла", главное качество которого "мрачное веселье". Об А. Мариенгофе говорилось, что его стиль - "стиль увядания, мертвенности, отмирания"*. Сам Мариенгоф предлагал такую, например, трактовку места и значения искусства: "Любовь - это тоже искусство. От нее так же смердит мертвечиной..."**. "Так подбираю я вожжи растрепавшихся мыслей и мчу в никуда свой шарлатанский шарабан",- писал В. Шершеиевич в книжке "2 х 2 = 5" (М., 1920). Это "в никуда" в высшей степени было характерно для имажинистов. Особенно настойчиво рвался в этом неизвестном направлении самый претенциозный из них - А. Кусиков, писавший: "Моя мысль на галопе завернулась пристяжной и в куда-то неведомо скачет".
* (И. Рюриков. Четыре выстрела (в Есенина, Кусикопа, Мариенгофа, Шершеневича). М., 1921, стр. 21.)
** (А. Мариенгоф. Буян-остров (имажинизм). М., "Имажинисты", 1920, стр. 9, 21.)
Имажинизм был отмечен явными признаками вырождения буржуазного искусства. Об этом говорил и литературный быт имажинистов, представлявший собой богему самого низкого пошиба. В автобиографии 1922 года, написанной сразу же после прибытия за границу, Есенин, явно бравируя, писал: "Самые лучшие поклонники нашей поэзии - проститутки и бандиты. С ними мы в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению"*. Это писалось в расчете на веселый эффект и сенсацию. Но когда тяжело усталый и разбитый поэт писал об этом же в своих стихах, у него вырывались совсем другие слова:
* ("Новая русская книга", 1922, № 5, стр. 42.)
Шум и гам в этом логове жутком, Но всю ночь напролет, до зари, Я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю невпопад: - Я такой же как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад.
"Чужим и хохочущим сбродом" называл поэт это дикое сборище, с болью говоря, что у него "вся в крови душа". И все же литературная богема крепко держала Есенина. Она выбивала его из колеи нормальной жизни, коверкала и уродовала личную жизнь поэта, создавала настроение неуравновешенности, толкала на необдуманные и нелепые поступки. Редкий день обходился без скандалов. "Скандал, особенно красивый скандал, всегда помогает таланту",- вспоминал поэт В. Кириллов слова Есенина, сказанные им в кафе поэтов в 1919 году, и добавлял: "Было обидно за Есенина: зачем ему эта реклама"*. Шутки ради он тратил много усилий и времени на разные "забавы": хотел устроить дуэль между В. Шершеневичем и О. Мандельштамом; принимал участие в шутовском венчании В. Хлебникова на "мировую славу"; звонил знакомым, сообщая чужим голосом, что "умер Есенин", и приглашал на похороны; неожиданно предлагал малознакомым женщинам пойти в загс и зарегистрироваться "для смеха" и т. п. Часто видели Есенина в эту пору в нетрезвом, или, как он говорил, "в черновом виде". Он оставил с двумя детьми свою жену З. Райх (1894-1939), начал легко относиться к случайным встречам. И только на первый взгляд могло казаться, что весь этот безалаберный быт не задевает в нем главного. Нет, он день за днем ранил душу и сердце поэта, и эти раны оставались долго незаживающими.
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М,-Л., ГИЗ, 1926, стр. 173.)
Н. Никитин вспоминает об одной поздней встрече с Есениным в Ленинграде: "Едем по Литейному, он мне показывает невдалеке от Симеоновской невысокий, темно-коричневый дом.
- Видишь! Вот в этом доме я жил, когда я первый раз женился. И у меня квартира была...
Или:
- И у меня были дети.
Это было прошлое, пережитое, несомненно оторванное, вспоминаемое с болью..."*.
* (Н. Никитин. Встречи. "Красная новь", 1926, № 3, стр. 248.)
В откровенном, сердечном разговоре с матерью он слышит ее горький упрек, на который ему нечего возразить:
Но ты детей По свету растерял, Свою жену Легко отдал другому, И без семьи, без дружбы, Без причал Ты с головой Ушел в кабацкий омут.
Таким образом, общественная и литературная позиция имажинистов, как и их литературный быт, могли оказать и оказывали лишь отрицательное воздействие на Есенина. И это не только оценка с позиций сегодняшнего дня. Лучшие представители советской литературы еще в ту пору вели решительную борьбу с имажинизмом, который они справедливо рассматривали как одно из проявлений буржуазно-декадентского искусства. Впрочем, и сами имажинисты не скрывали своих родственных связей, называя себя "русскими дадаистами" (беспредметниками). "Имажинизм идеологически ближе к символизму, чем к футуризму",- писал В. Шершеневич. В. Маяковский, к этому времени "бросивший безделушки и работающий в РОСТЕ", имел все основания в своем "Приказе № 2 Армии искусств" ставить имажинизм рядом с другими декадентскими группами ("футуристики, имажинистики, акмеистики").
"Имажинисты - публика чужая",- писал Д. Фурманов. Непримиримо резко говорил о них А. Луначарский. В специальном заявлении, опубликованном в "Известиях", он писал: "Довольно давно уже я согласился быть почетным председателем Всероссийского союза поэтов, но только совсем недавно смог познакомиться с некоторыми книгами, выпускаемыми членами этого союза. Между прочим с "Золотым кипятком" Есенина, Мариенгофа и Шершеневича.
Как эти книги, так и всякие другие, выпускаемые за последнее время так называемыми имажинистами, представляют собой злостное надругательство и над собственным дарованием, и над человечностью, и над современной Россией...
Так как Союз поэтов не протестовал против этого проституирования таланта, вывалянного предварительно в зловонной грязи, то я настоящим публично заявляю, что звание председателя Всероссийского союза поэтов с себя слагаю"*. В одной из своих статей о современной литературе А. Луначарский вновь вернулся к характеристике имажинистов. Он писал, что в отличие от искренних и серьезных художников имажинисты - "шарлатаны, желающие морочить публику", хотя среди них "есть талантливые люди, но которые как бы нарочно стараются опаскудить свои таланты"**. В своем ответе А. Луначарскому имажинисты, прибегнув к открытой демонстрации, потребовали выслать их "за пределы Советской России" и объявить "публичную дискуссию по имажинизму" (там же, № 2, стр. 248, 249). "А. В. Луначарский ответил, что если бы имел право высылать кого бы то ни было, то этим правом не воспользовался бы, ибо публика сама разберется в имажинизме. Что касается дискуссии, то она явится лишь неприличной рекламой для имажинистов"***
* ("Известия", 1921, 14 апреля.)
** ("Печать и революция", 1921, № 1, стр. 6.)
*** ("Вестник литературы", 1921, № 11, стр. 15.)
При всем этом в те годы делались попытки утверждать, что связь Есенина с имажинистами была благотворной для поэта. Так, С. Городецкий считал, что имажинисты помогли Есенину порвать с Клюевым, найти "выход из пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой", что имажинизм был для Есенина осознанием "поэзии как сверхжизни"*. Несостоятельность этой защиты очевидна: с точки зрения творческого развития Есенина, имажинизм, хотя и по-иному, но вредил поэту не меньше, чем клюевщина, а понимание поэзии как "сверхжизни" лишний раз указывает, что имажинисты уводили Есенина на позиции "чистого искусства". И, конечно, правы были те, кто видел пагубное влияние имажинизма на Есенина. Еще в 1920 году в одной из рецензий на сборник имажинистов говорилось: "От души следует пожелать, чтобы Есенин отряхнул поскорее от ног своих прах имажинизма и вышел на верный путь. Он - безусловно даровитый человек, и жаль, если потратит все свои силы и способности на поэтические кривляния"**. После смерти поэта особенно ясно стало, что в его гибели повинна была и та кабацкая богема, которой окружили Есенина имажинисты. С болью и гневом писал об этом Б. Лавренев***.
* ("Новый мир", 1926, № 2, стр. 141.)
** ("Книга и революция", 1920, № 3-4, стр. 64.)
*** (Б. Лавренев. Казненный дегенератами. "Красная га зета", веч. вып., 1925, 30 декабря.)
Губительность имажинизма для Есенина несомненна. Но имажинисты не смогли подчинить подлинное поэтическое дарование поэта холодному и расчетливому шутовству. Есенин не потерял собственного поэтического голоса. На фоне однообразных словесных упражнений имажинистов Есенин выделялся своей яркой самобытностью. Еще современникам резко бросалось в глаза отличие Есенина от других имажинистов. Так, В. Брюсов, мнением которого Есенин всегда дорожил, писал: "Третий видный имажинист, С. Есенин начинал как "крестьянский" поэт. От этого периода он сохранил больше непосредственного чувства, нежели его сотоварищи... У Есенина четкие образы, певучий стих и легкие, хотя однообразные ритмы; но все эти достоинства противоречат имажинизму, и его влияние было скорее вредным для поэзии Есенина"*. Такой тонкий знаток стиха, как Ю. Тынянов, писал о Есенине: "Самое неубедительное родство у него - с имажинистами"**.
* ("Печать и революция", 1922, № 7, стр. 59.)
** ("Русский современник", 1924, № 4, стр. 211.)
Но все же пребывание Есенина среди имажинистов, и довольно длительное, остается фактом. Значит, сам Есенин ощущал определенное поэтическое родство с ними. Чтобы лучше понять характер этой близости, необходимо сопоставить поэтическую программу имажинистов с художественными поисками и воззрениями Есенина в этот период.
В том же журнале "Жизнь и творчество русской молодежи", где имажинизм провозглашался "анархо-искусством", B. Шершеневич писал в статье "Искусство и государство": "Мы требуем полного разделения искусства (дифференциации). Поэтому мы выкидываем из поэзии звучность (музыка), описание (живопись), прекрасные и точные мысли (логика), душевные переживания (психология) и т. д. ... Единственным материалом поэзии является образ" (1919, № 28-29, стр. 5). "Образ для имажиниста - самоцель",- писал В. Шершеневич в книге "2 х 2 = 5". "Стихотворение пе организм, а толпа образов", "слово вверх ногами - вот самое естественное положение слова, из которого должен родиться новый образ",- писал он здесь же.
Есенина привлекали рассуждения имажинистов о главенствующем положении образа в поэзии. "К черту чувства, слова в навоз. Только образ и мощь порыва!" - писал он в 1918 году совсем в духе имажинистских деклараций.
Увлеченный поисками неожиданных образов и необыкновенных словосочетаний, Есенин в это время прибегает к чисто механическим приемам, которые, естественно, не могли заменить творческий процесс. Вот что рассказывает
C. Городецкий: "Я застал однажды Есенина на полу, над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о "машине образов". На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово - название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехстепенные имажинистские сочетания образов. Я отнесся скептически к этой идее, но Есенин тогда очень верил в возможность такой машины"*.
* ("Новый мир", 1926, № 2, стр. 142.)
Вполне понятно, что такие слепые поиски не могли дать положительного результата. В некоторых стихах Есенина 1919-1920 годов печально отразилось увлечение образом в ущерб содержанию. Это особенно заметно в его "Кобыльих кораблях" (1920). Уже само название произведения ставило в тупик читателя, ибо невозможно было догадаться, что оно содержит "образное" выражение такого сравнительно простого явления, как небесные облака. Стихотворение целиком было подчинено задаче количественного накопления образов и скорее напоминало сложный ребус:
Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; Облетает под ржанье бурь Черепов златохвойный сад. Слышите ль? Слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам. Веслами обрубленных рук Вы гребетесь в страну грядущего.
В подобных стихах Есенина усложненные и запутанные образы стояли, как частокол, через который невозможно было рассмотреть содержание произведения, о нем можно было лишь смутно догадываться. Нарочитым и вымученным выглядело такое, например, изображение неба и солнца:
О, боже, боже, эта глубь, Твой голубой живот, Златое солнышко, как пуп Глядит в Каспийский рот.
Это один из примеров чисто имажинистского образотворчества Есенина, рассчитанного не па подлинно поэтическое воздействие, а лишь на то, чтобы ошеломить читателя. "Мои рыдающие уши, Как весла плещут по плечам",- писал Есенин в стихотворении "Прощание с Мариенгофом", рассчитывая на такой же эффект. В стихах Есенина начал появляться тот натурализм и цинизм, присущий имажинистам, который А. Луначарский назвал "надругательством над собственным дарованием". Становится горько за поэта, когда в его стихах вдруг встречаешь фразы, наподобие следующих: "Даже солнце мерзнет, Как лужа, Которую напрудил мерин!, "Если хочешь, поэт, жениться, Ты женись на овце в хлеву" и т. п. Подобные имажинистские "смелости" начали заметно портить стихи Есенина. Пример тому - стихотворение "Исповедь хулигана" (1920), в котором наряду с очень проникновенными строками о Родине, о родителях, о детстве - обо всем подлинно дорогом и близком сердцу - встречаются и вызывающие, грубые строки. Подобное загрязнение некоторых стихотворений Есенина А. Луначарский справедливо связывал с имажинизмом. Он с сожалением отмечал, что наряду с подлинными поэтическим достижениями Есенина у него встречаются "порою всякие довольно безвкусные имажинистские выверты и "дерзновения"*. Это же имел в виду и В. Брюсов, отмечавший в рецензии на сборник "Голубень" талантливость Есенина, но и порицавший поэта за надуманность некоторых образов и сравнений: "Нам лично впечатление портят неправильные рифмы и ряд сравнений и метафор, вряд ли жизненных, как дождь "пляшет, сняв порты", "на долину бед спадают шишки слов" и т. д."**.
* ("Известия", 1919, 17 ноября.)
** ("Художественное слово", Временник лит. отд. НКП, книга первая. М., 1920, стр. 57.)
Имажинистские увлечения Есенина в большой степени отразились и в его теоретической работе о поэзии - в очерке - "Ключи Марии" (1919). В ней Есенин анализирует историческое прошлое и духовную жизнь русского народа только под одним углом зрения: его внимание целиком приковано к народному образотворчеству, в котором он видит отражение экономической, нравственной, философской и художественной жизни русского народа. В этом он видит разгадку всех задач поэтического творчества, в основе которого должен лежать только образ. "Ключи Марии" значит - ключи души, ключи поэзии ("Мария" - условное обозначение "души", заимствованное Есениным из лексикона хлыстовцев)*.
* (Очерк "Ключи Марии" опубликован в упоминавшемся собр. соч. Есенина (т. V, стр. 27-54).)
Свой очерк Есенин открывает рассуждением о русском орнаменте, который пронизывает всю жизнь народа, отражает ее в художественных символах - образах. "Самою первою и главной отраслью нашего искусства, с тех пор как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент", он "существовал гораздо раньше приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции". Поэтому до сих пор в "разбросанной жизни обихода" на каждом шагу мы встречаем орнамент, символически выражающий ту или иную сторону жизни народа. Так, на полотенцах крестьянки бессознательно продолжают вышивать деревья, а начало этому лежит в глубокой древности, когда вышитое "символическое древо" обозначало семью (древо жизни); дерево потому оказалось символом жизни, что сам человек напоминает его: туловище - ствол, ноги - корни, сучья - руки, пальцы - ветви, ногти - листья, "Все от древа - вот религия мысли нашего народа",- пишет Есенин. Далее, он развивает эти рассуждения: "Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека". Петух на ставне говорит, "так и я, пахарь встаю вместе с ним"; голубь на князьке "есть знак осенения кротостью", которая обещает мир и спокойствие живущим в доме; цветы на белье означают отдых в саду после работы; конек на крыше дома - "Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья" и т. д.
Обращаясь к этой образно-бытовой символике, Есенин приходит к выводу, что именно в ней нужно искать истоки подлинной поэтичности. "За культурой обиходного орнамента...- писал он,- начинают показываться следы искусства словесного". Самым главным и издревле сложившимся признаком русского словесного искусства поэт считает образность, посредством которой народ осмыслял явления окружающей действительности, пытаясь освоить тайны природы. Он приводит пример: видя, как тучи закрывают солнце и наступает ненастье, человек говорил: "Волцы задрали солнечко". В таком образном осмыслении окружающего мира Есенин и видит задачу современного поэтического искусства. Как видим, увлеченный теорией образотворчества, Есенин заметил в древнерусской культуре лишь один из ее характерных признаков. И, заметив эту особенность древнего русского искусства, Есенин абсолютизировал ее и попытался оправдать ею имажинистские теории о главенствующем значении образа в поэзии, о его самоцельном значении. Не случайно В. Шершеневич воспринял "Ключи Марии" как "философию имажинизма" и назвал Есенина "идеологом имажинизма"*.
* ("Знамя", 1920, № 2, стр. 58.)
Помимо имажинистских настроений, в "Ключах Марии" видны еще следы мистицизма Клюева. Он отразился в трактовке бытовой символики, которая у Есенина носит иногда мистический характер. Так, толкуя о том, что конек на крыше дома напоминает, что "за шквалом наших земных событий не далек уже берег", Есенин цитирует стихи Клюева: "На кровле конек есть знак молчаливый, что путь наш далек".
В "Ключах Марии" видны и следы былой близости Есенина к символистам, его определенный интерес к их теориям словесного искусства, которые особенно усиленно развивал А. Белый и которые были знакомы Есенину в период его "скифства". В сборнике "Скифы" (1917, сб. 1) А. Белый в статье "Жезл Аарона (слово о поэзии)" вел декадентско-мистические рассуждения о слове вроде того, что "звуки слов - заговор", "корни слов - магия", "первоначальное слово мифично", "метафора заключает потенцию мифа" и т. п. С каким вниманием относился тогда Есенин к А. Белому, известно из статьи Есенина "Отчее слово (по поводу романа Андрея Белого "Котин Летаев)". "Мы очень многому обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства, с божьим "туком" и воплями плащеницы". "Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров..., но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрением и памятью в вещах, приближаемся только через "андреебеловское" "выкусываниз За спиной" (т. V, стр. 63, 64).
Так писал Есенин, вглядываясь в смутные мистические толкования А. Белого. И это не прошло бесследно. Отрицая в "Ключах Марии" Маяковского и пролетарских поэтов, Есенин с почтением пишет здесь об А. Белом, вновь возвращаясь к "Котику Летаеву": "Когда Котик плачет в горизонт, когда на него мычит черная ночь и звездочка слетает к нему в постельку усиком поморгать, мы видим, что между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке" (там же, стр. 49). Влияние символистских теорий А. Белого отразилось и в отношении Есенина к народному орнаменту как к мистико-символическим знакам, связующим "земное" и "небесное". Есенин пишет об орнаменте: "Его образы и фигуры - какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте",- и далее почти дословно повторяет то, что он писал об А. Белом: "Каждая вещь чрез каждый свой звук говорит знаком о том, что здесь мы только в пути..." "Утверждения Есенина о "вере человека не от классового сознания, а от сознания объемлющего его храма вечности" превращаются в чистейший символизм"*,- справедливо писал Н. Асеев, анализируя "Ключи Марии". "Тут получается сложный переплет взаимных влияний этнографической мистики и мистики литературной"**,- верно замечал С. Городецкий.
* ("Печать и революция", 1922, № 8, стр. 44.)
** ("Новый мир", 1926, № 2, стр. 143.)
Наконец, в "Ключах Марии" отразилось и влияние научных источников. Сам Есенин упоминает имена Стасова и Буслаева, говоря о том, что они одни из первых обратили внимание в науке на русский орнамент. Перед тем как писать свой очерк, Есенин знакомился с их трудами, а также с работами других исследователей, в частности с книгой А. Афанасьева "Поэтические воззрения славян на природу". Один из исследователей фольклорных источников поэзии Есенина пишет, что, по свидетельству Е. Ф. Никитиной, "Есенин вместе с другим имажинистами долго искал в голодные годы афанасьевское исследование и, наконец, купил его за пять пудов муки. И поэт не только что читал, но вчитывался в эти столь нелегко приобретенные книги. В архиве Е. Ф. Никитиной хранятся бумаги поэта, из которых видно, что Есенин делал разного рода выборки из афанасьевского текста и тут же переделывал их в стихи"*. В "Ключах Марии" Есенин не упоминает Афанасьева, но следы его влияния заметны в рассуждениях поэта о мифотворчестве народа, в котором Афанасьев видел "так много изящного, обаятельного для художника"**. Именно отсюда Есенин заимствовал понимание слова "пастух". У Афанасьева сказано, что первоначальное значение этого слова - господин, повелитель, главенствующий. Есенин пишет, что "само слово пастух = пас-дух", и утверждает, что оно "говорит о каком-то мистически помазанном значении над ним". От Буслаева и Потебни идут рассуждения Есенина о символическом значении орнамента русского алфавита. Вслед за этими исследователями Есенин усматривает в каждой букве условное изображение человека и окружающего его мира: а - "человек, ощупывающий на коленях землю", я - "Эта буква рисует человека, опустившего руки на пуп (знак самопознания), шагающим по земле", 9 - "это есть Знак того, что опрокинутость земли сольется с опрокинутостью неба" и т. п.
* (Б. В. Нейман. Источники эйдологии Есенина. В кн.: "Художественный фольклор". М., изд. Государственной академии художественных наук, 1929, вып. IV-V, стр. 212.)
** (А. А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу, М., 1865, т. 1, стр. 59.)
Многое сошлось в "Ключах Марии": и отголоски клюевской мистики, и символистские теории, и мифологическая школа в науке, и увлечение Есенина с детских лет народным творчеством. И все это было подчинено одной задаче - утвердить себя в той новой вере, которую он нашел в имажинизме, убедить себя в ее правоте.
Когда писались "Ключи Марии", Есенин еще не замечал, что между его органическим интересом к поэтическому образу и формальным образотворчеством его друзей имажинистов существовала коренная разница. Эта разница была огромной: источники интереса к образу у Есенина и у имажинистов были совершенно разными и ни в чем не совпадали. Имажинисты изощрялись в механическом изобретении образов, начисто изолированных от всех других элементов стиха. Так они пытались обратить на себя внимание в литературе. Собственно говоря, никаких иных задач они перед собой и не ставили. В "Романе без вранья" А. Мариенгоф признался, что имажинисты жили "в неустанном беге за славой".
В отличие от чисто формалистических упражнений имажинистов интерес Есенина к поэтическому образу находил прочное основание во всем его творчестве, которое еще в самый ранний период было тесно связано с крестьянской образностью, составляющей существенную черту устной народной поэзии. Задолго до появления самого слова "имажинизм" мы встречаем в стихах Есенина образы, от которых позже не отказались бы имажинисты. Но образы поэта восходили не к убогим формалистическим теориям, а рождались на основе народного творчества. Еще в первых поэтических опытах Есенина, относящихся к 1910 году, мы встречаем картины природы, которые даются путем образного, зрительно ощутимого воспроизведения:
Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет.
Такое образное воспроизведение картин природы становится характерной чертой раннего творчества Есенина: "Распоясала зарница В нежных струях поясок"; "Желтые поводья месяц уронил"; "Церквами у прясел рыжие стога"; "И ветер, свесившись над речкою, полощет Водою белой пальцы синих ног"; "Изба-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины"; "Рожок луны по капле масло льет" и т. п.
Это все примеры из дореволюционного творчества Есенина, когда имажинизма не было и в помине. Какова была природа этих образов у Есенина? Они рождались на основе народных поговорок, пословиц, загадок, в которых образ играет важную роль. Иногда прямо заимствуя, а иногда подвергая их сложной поэтической переработке, Есенин охотно прибегал к ним. Например, существует известная загадка о солнце: "Белая кошка - лезет в окошко". Мы встречаем у Есенина прямое использование этого образного обозначения солнца: "Ныне Солнце, как кошка..." Но в то же время, имея в виду это образное сравнение, он создает на основе его самостоятельный производный образ, передающий картину вечерней зари: "В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок, моет лапкой рот" (1915). Можно не сомневаться, что "заря - котенок" ведет свою родословную от "солнца - кошки". Такова истинная природа образности Есенина, органически сочетающейся со всем характером его творчества. Еще за три года до опубликования манифеста имажинистов он сам открыто декларировал в 1915 году свою приверженность к образу:
И невольно в море хлеба Рвется образ с языка: Отелившееся небо Лижет красного телка.
То, что соратники Есенина воспринимали в его творчестве как имажинизм, было не чем иным, как разработкой той образной системы, которая была найдена им самим и имела свои собственные истоки. И если, скажем, в 1918 году мы встречаем в стихах Есенина такие образы, как "Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде" или "Солнце златою печатью Стражем стоит у ворот", то не нужно видеть в этом имажинистскую выучку Есенина. Это та образная система, которой всегда хорошо владел Есенин. Более того, влияние "чистого образотворчества" лишь нарушало внутренне оправданную образность Есенина, придавало ей черты надуманности и вычурности, о чем уже говорилось выше.
И мы вправе утверждать, что близость Есенина к имажинистам в большей степени была внешней, чем внутренней. Это было не сразу понято и самим Есениным, но постепенно становилось для него все более очевидным. Нельзя было скрыть наличия разногласий между Есениным и правоверными имажинистами. В одном из литературных отчетов говорилось, что группа имажинистов распадается на "правых" (Есенин) и "левых" (Шершеневич и Мариенгоф): "Правые" - считают образ средством, и соответственно с этим поэзию делят на нужную и ненужную, в то время как "левые" считают образ самоцелью и совсем не интересуются содержанием. Таким образом, "правым" важно что написать, а "левым" - как написать, независимо от содержания"*.
* ("Вестник литературы", 1922, № 2-3, стр. 37-38.)
Когда позиции спорящих определились до конца, открытое столкновение стало неизбежным, и оно произошло на обсуждении поэмы Есенина "Пугачев", в котором имажинисты увидели явную уступку определенной теме и содержанию. На этом обсуждении Есенин впервые публично заявил о своих разногласиях с имажинистами. "Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями- имажинистами,-читаем в воспоминаниях об этом обсуждении,- некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ"*. В разговоpax на литературные темы Есенин все чаще и чаще возвращается к критике имажинистов, внутренне отдаляясь от них. "Меня всегда несколько удивляло, что, всегда дружески отзываясь о них как о людях, Есенин строго относился к их творчеству, не находя у них самого, по его мнению, главного: поэтического мироощущения"**,- пишет И. Розанов. "Много говорили о Москве,- вспоминает свой разговор с Есениным Вс. Рождественский,- и меня удивило, что па этот раз он отзывался о многих своих московских приятелях с оттенком горечи и некоторого раздражения"***.
* (И. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве (воспоминания). М., 1927, стр. 10. О том, как Есенин понимает в эту пору имажинизм, говорит следующее его замечание о поэте Мее: "Он выбирает лучшие, по его мнению, стихи Мея, читает мне. Утверждает, что у Мея чрезвычайно образный язык. Утверждает, что Мей имажинист" (там же, стр. 4).)
** (В сб. "Есенин". М., "Работник просвещения", 1926, стр. 88.)
*** ("Звезда", 1946, № 1, стр. 109.)
Помимо сказанного, было еще одно важное обстоятельство, разделявшее Есенина и его временных друзей,- их разное отношение к русскому национальному искусству.
Все написанное и провозглашенное имажинистами лишено национальной почвы. Имажинизм, оставаясь в сфере чисто формалистических исканий и опытов, походил на все другие течения формалистического толка, проникавшие к нам из-за рубежа под маской "последнего слова" искусства. Само слово "имажинизм" было занесено к нам из Франции через Англию (image - картина, образ), как "футуризм" из Италии. В 1915 году в журнале "Стрелец" появилась статья 3" Венгеровой "Английские футуристы". В ней говорилось, что два американца - один "обангличанившийся", а другой "офранцуженный" - объявили себя "имажистами". "Наша задача сосредоточена на образах, составляющих первозданную стихию поэзии",- так определяли они свою программу, выступая против всего "мешающего "чистому искусству"*. Ими была издана антология под французским названием "Des Imagistes". "Их стиль признан последним словом английского вкуса",- писала 3" Венгерова, замечая, что стиль этот - "прямой сколок с уже приевшихся приемов футуристов", что "поэзия имажистов ничего яркого не дала" (там же, стр. 96, 104). Именно из этой статьи В. Шершеневич и подхватил модное заграничное словечко "имажисты", слегка изменил его на "имажинисты" и водрузил как знамя организованной им группы. В. Шершеневичу легко было позаимствовать это "новшество" английских футуристов, так как до этого сам он ходил в эго-футуристах. Так европейская мода оказалась экспортированной в Россию. Более того, Шершеневич считал крайне необходимым подчеркнуть, что имажинизм не имеет никакого отношения к русскому национальному искусству и его традициям. Он поучал: "Национальная поэзия - это абсурд, ерунда; признать национальную поэзию это то же самое, что признавать поэзию крестьянскую, буржуазную и рабочую. Нет искусства классового и нет искусства национального. В твоих (Кусикова.- Е. Н.) стихах мне как раз нравится то, что ты крепко и закономерно побеждаешь национальность... Можно прощать национальные черты поэта (Гоголь), но любить его именно за это - чепуха"**.
* (Альманах "Стрелец", сборник первый. Пг., 1915, стр. 93.)
** (В. Шершеневич. Жмет руку кому. М., 1921, стр. 23.)
Совершенно ясно, сколь неприемлемыми для Есенина были подобные взгляды. Они могли только углубить уже начавшийся раскол между Есениным и имажинистами. Так оно и случилось.
От устных споров со своими поэтическими соратниками Есенин очень скоро переходит к открытому выступлению против них в печати. Он задумывает теоретическую работу "Словесные орнаменты", которая должна была развенчать имажинизм, показать всю его несостоятельность. Эта работа не была доведена до конца. Есенин опубликовал лишь часть ее под названием "Быт и искусство (отрывок из книги "Словесные орнаменты")". Но даже часть работы не оставляет никаких сомнений в том, что она была Задумана как антиимажинистская книга.
Статья "Быт и искусство" (т. V, стр. 55-61) содержит две основные темы.
Одна из них - осуждение формалистической позиции имажинистов. С этого он и начинает статью: "Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и уклада". "Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ, это уже все". Есенин подробно развивает свои возражения по этому поводу. В частности, он пишет: "Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный... Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе эти виды искусства только лишь как необходимое ему оружие". "Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства". Подробно останавливаясь на том, "насколько искусство неотделимо от быта", Есенин так характеризует формализм имажинистов: "У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше не меньше как ни на что не направленные выверты".
Вторая тема статьи Есенина - осуждение национального нигилизма имажинистов. Повторяя некоторые положения своего очерка "Ключи Марии", Есенин указывает на зависимость поэтического мышления от духовной жизни народа, от его нравов и обычаев, которые придают поэзии определенную национальную окраску. Не представляя себе поэзии, лишенной этой особенности, он пишет: "У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния" (там же). И вот общий вывод Есенина, заключающий его статью, остро направленную против "собратьев": "Жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство - только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность" (там же).
Все это означало, что самобытный талант Есенина устоял во внутренней борьбе с имажинизмом. Оставив некоторые следы в поэзии Есенина, имажинизм не смог поколебать ее основу, убить ее корни. Уже шла речь о том, какого рода "имажинизм" на самом деле горячо увлекал Есенина еще в предреволюционные годы. Истоки его лежали в чистом роднике народного творчества. "Знаете ли, какое произведение произвело на меня необычайное впечатление?! - "Слово о полку Игореве". Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил, как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма"*,- говорил Есенин.
* (И. Розанов, Есенин о себе и о других, стр. 16.)
И вполне естественно, что в "Ключах Марии" он приводил "Слово о полку Игореве" как пример народного образотворчества. Он цитировал здесь глубоко поэтическое образное сравнение битвы с жатвой: "На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела". Насколько глубоко входила образность "Слова..." в поэтическое сознание Есенина, видно из его стихотворения "Песнь о хлебе" (1921), в котором находим своеобразное обратное сравнение: жатва уподобляется убийству.
Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл - страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей. Наше поле издавна знакомо С августовской дрожью поутру. Перевязана в снопы солома, Каждый сноп лежит, как желтый труп. На телегах, как на катафалках, Их везут в могильный склеп-овин, Словно дьякон, на кобылу гаркнув, Чтит возница погребальный чин. А потом их бережно, без злости, Головами стелют по земле, И цепами маленькие кости Выбивают из худых телес. Никому и в голову не встанет, Что солома - это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице - зубами В рот суют те кости обмолоть...
Подобная образная система - это, конечно, не "толпа образов", излюбленная имажинистами. Она восходит к народному образотворчеству. В эту пору Есенин писал: "Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить" (т. V, стр. 18). Органичность образа, т. е. его глубокая внутренняя связь с содержанием, со смыслом всего произведения, со всеми его художественными элементами - вот есенинское понимание образотворчества.
Шаг за шагом отходил Есенин от тех, с кем еще недавно был тесно связан. В этом отходе сказались и те отталкивающие нравы, которые господствовали в среде имажинистов. Так, вскоре после смерти А. Блока (1921) ими был устроен вечер "Чистосердечно о Блоке", на котором они надругались над памятью поэта. По этому поводу Есенин говорил: "Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся.- Да, я не участвовал в этом вечере, и я сказал им, моим бывшим друзьям - стыдно!"*. В марте 1922 года Есенин признавался в одном из писем: "Мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией" (т. V, стр. 151).
* (В. Пяст. Встречи с Есениным. Архив Есенина, ЦГАЛИ, фонд 190, опись 1, ед. хр. 134.)
Без сожаления оставлял Есенин имажинистов, уезжая в мае 1922 года в длительную заграничную поездку. В некотором смысле эта поездка имела для него оздоровляющее значение: она отдаляла его от "собратьев", давала возможность посмотреть на них со стороны. После возвращения на Родину Есенин "начал задыхаться в узком кругу имажинизма... Свое недовольство имажинизмом он вдруг перенес на Мариенгофа; он стал различать как бы два имажинизма. Один - одиозный, мариенгофскии, с которым он "будет драться", а другой - свой, есенинский, который он "признавал" и от которого "не уходил"*. Вспоминая события 1919-1920 годов, А. Мариенгоф писал: "Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже. Но теперь я знаю, что случилось это не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше"**. Р. Ивнев, хорошо знавший все обстоятельства внутренней жизни группы имажинистов, свидетельствует, что после возвращения Есенин с большим трудом дал свои стихи в третий номер журнала имажинистов "Гостиница для путешествующих в прекрасном", "но уже в четвертом номере того же журнала Есенин не согласился печататься". ("Я не хочу видеть этой "Гостиницы". Пусть издает ее, кто хочет")***. Имажинисты не могли не чувствовать этого отхода от них Есенина, но в целях саморекламы продолжали спекулировать широко известным именем популярного поэта. Но Есенин оказался последовательным и решительным в отходе от своих навязчивых попутчиков. 31 августа 1924 года в газете "Правда" было опубликовано следующее его заявление, подписанное также И. Грузиновым: "Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа "имажинисты" в доселе известном составе объявляется нами распущенной". Так окончательно порвались и те внешние связи, которые еще создавали видимость близости Есенина к имажинистам. С его уходом эта группа окончательно развалилась и бесславно канула в Лету. И кто бы помнил о ней, если бы Есенин на своем поэтическом пути случайно не забрел в дешевые, мало опрятные номера "Гостиницы" имажинистов?!
* (Р. Ивнев. Об Есенине. В сб.: "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 30.)
** (А. Мариенгоф. Роман без вранья, стр. 109.)
*** (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 30, 31.)
Временно оказавшись в кругу литературной богемы, Есенин не порвал внутренние связи с той социальной средой, из которой он вышел, не потерял интереса к жизни русского крестьянства, к его настоящему и прошлому. Об Этом свидетельствует его драматическая поэма "Пугачев" (1921 г.), задуманная еще в период имажинистских увлечений. Нет сомнения в том, что интерес Есенина к Пугачеву связан с его острым интересом к мужицкой России, к борьбе русского крестьянина против векового гнета. Особенно закономерен и понятен этот интерес в обстановке свершившейся Октябрьской революции. Связь прошлого с настоящим в "Пугачеве" тогда же отмечалась в печати. Так, в статье Н. Осинского, опубликованной в "Правде" (4 июля 1922 г.), подчеркивалось, что в "Пугачеве" поэтом сделана попытка "выявить внешнее выражение и внутренний пафос мятежной стихии, изобразить ее как непрерывное течение одной реки, докатившейся от пугачевских времен до нашего времени". Интерес Есенина к пугачевскому времени был весьма глубоким. На это указывает основательная подготовка поэта к написанию поэмы. В. Вольпин вспоминает, как в конце 1920 года Есенин "рассказывал, что пишет "Пугачева", что собирается поехать в Киргизские степи и на Волгу, хочет поехать по тому историческому пути, который проделал Пугачев, двигаясь на Москву..."* Есенин достаточно хорошо был знаком с исторической и художественной литературой о Пугачеве. Поэту хотелось сказать новое, свое собственное слово о вожде крестьянского восстания. Он чувствовал эту возможность, как человек, связанный с духовным миром крестьянской жизни, как писатель, обратившийся к этой теме в новых исторических условиях. И. Розанов запомнил свой разговор с Есениным о "Капитанской дочке" Пушкина. Есенин говорил: "У меня совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь". Считая Пугачева "почти гениальным человеком", Есенин полагал, что "у Пушкина это как-то пропало"**.
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 110.)
** (И. Розанов. Есенин о себе и о других, стр. 12, 13.)
В поэме "Пугачев" видна совершенно определенная крестьянско-демократическая позиция Есенина: Пугачев и его лучшие соратники выступают как герои крестьянского восстания, последовательные защитники обездоленного народа, страдающего от самодержавия, от помещичьего гнета и произвола. Сам Пугачев - борец за "мужицкую Русь" - наделен государственным умом, пониманием исторической Значимости происходящего, мудрым взглядом на жизнь, благородным чувством гуманизма. Есенин подробно рисует крестьянское движение, психологическое состояние героев. Пугачев верит в неисчерпаемые силы русского крестьянина, действует в союзе с калмыцкой беднотой, с уральскими рабочими, готов к решительной схватке с самодержавием. С чувством горечи и боли Есенин повествует о том, как некоторые бывшие сообщники, оробевшие перед силой царских войск, предали Пугачева.
Хорошо зная исторические документы, Есенин в то же время не стремился сохранить полную историческую достоверность. Художественная задача поэта заключалась в романтизации мужицкого бунтаря. Отрешенность от всего мелочного, бытового, одержимость идеей борьбы за свободу, мятежный и непреклонный дух, готовность к самопожертвованию - таковы черты этого героя. Даже сама историческая ситуация (Пугачев выдавал себя за Петра III) окутана в поэме романтической таинственностью. Все это было сознательной позицией Есенина, стремившегося изобразить выходца из социальных низов крепостной России теми красками и в том освещении, в котором изображались романтические герои русской и мировой литературы. И здесь важно вновь подчеркнуть, что творческую фантазию Есенина питало не только прошлое России, но и ее революционное настоящее. Романтический пафос поэмы отражает романтику революционных лет, когда вся мужицкая Россия, охваченная пламенем борьбы, окончательно сбрасывала с себя оковы былого угнетения. Пугачев призывает восставших "Вытащить из сапогов ножи. И всадить их в барские лопатки". "Никакие угрозы суровой судьбы Не должны вас заставить смириться",- подбадривает он их. В черновом варианте поэмы были и такие слова Пугачева: "Зарубите на носах, что в своем государстве Вы должны не последними быть, а первыми".
Острая социальная тема "Пугачева" указывала, сколь непрочен союз Есенина с имажинистами, отрицавшими не только "классовое искусство", но и вообще какое-либо содержание в поэзии. Не случайно в одном из первых отзывов на поэму говорилось: "Пугачев" - самое значительное произведение Есенина... Есенин больше "имажинизма". Есенин, пусть в цилиндре и лаковых башмаках, связан с народом"*. "Прекраснейшей книгой" назвал поэму Есенина И. Эренбург, отмечавший: "Есть в "Пугачеве", в его хаосе, несделанности, темноте, нечто, еще не бывшее в книгах Есенина. Это широта дыхания, начало высокого эпоса"**. Сам Есенин считал "Пугачева" "действительно революционной вещью"***.
* ("Книга и революция", 1922, № 7, стр. 57.)
** ("Новая русская книга", 1922, № 2, стр. 16.)
*** (В. Кириллов. Встречи с Есениным. В сб.: "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 174.)
При всем этом поэма Есенина оказалась переходным произведением: в ней видно резкое отличие автора от имажинистов и в то же время еще заметно леды имажинистской образности, которая находится в резком противоречии с подлинно героическим пафосом и революционным смыслом поэмы.
Известно, что Горькому понравились отдельные места поэмы, которые Есенин читал ему, в частности монолог Хлопуши и последние слова Пугачева:
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужели под душой так же падаешь,
как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... Дорогие... Хор-рошие...
Но в целом поэма все же оказалась перегруженной имажинистскими образами, нагромождение которых заслоняло ее содержание. Мало гармонировал облик Пугачева с такими, например, его речами в духе имажинистской образности:
Так же ль здесь, сломав зари застенок, Гонится овес на водопой рысцой, И на грядках, от капусты пенных, Челноки ныряют огурцов?

Сергей Есенин. 20-е годы

Сергей Есенин и Айсендора Дункан. 1922 г.
Несколько позже Пугачев вновь возвращается к подобной декламации, которая так не гармонирует с обликом вождя мужицкого восстания:
Клещи рассвета в небесах Из пасти темноты Выдергивают звезды, словно зубы, А мне еще нигде вздремнуть не удалось.
Не слишком ли это сложно и вычурно для Пугачева, говорящего о таких простейших вещах, как бессонно проведенная ночь и наступивший рассвет? В умении образно выражаться не отставали от Пугачева и его соратники. Вот, например, речь Кирпичникова:
Пусть помнит Екатерина, Что если Россия - пруд, То черными лягушками в тину Пушки мечут стальную икру.
Несоответствие речи персонажей их внутреннему облику усиливалось еще тем, что это были конкретно-исторические фигуры (Хлопуша, Зарубин, Михельсон и др.).
Условная имажинистская оболочка вступала в противоречие с реалистическим содержанием поэмы, разрушала цельность впечатления. На опыте "Пугачева" Есенин мог убедиться в том, как терпит крушение попытка соединить несовместимое: глубокое социально-историческое содержание с условной формой, подчиненной задаче создания самоцельных образов. Несмотря на ряд частных удач и достоинств этой поэмы, она не заняла в творчестве Есенина видного места. Многими современниками она воспринималась как неудача. Н. Полетаев, который был дружен с Есениным, вспоминал: "В это время он долго и упорно работал над "Пугачевым". Поэма не удалась. Это его сильно огорошило"*.
* (В сб. "Сергей Александрович Есенин. Воспоминания". М.- Л., ГИЗ, 1926, стр. 103.)
Внутренняя противоречивость поэмы "Пугачев" указы-ала на ту борьбу, которая происходила в сознании Есе-ина: борьбу между здоровым началом, истоки которого лежали в духовной связи поэта с русским крестьянством, и теми наносными отложениями, которые определялись его временной близостью к имажинистам. Но как бы ни отразилась эта близость на его творчестве, она не убила в нем главного - национального начала его поэзии в самом широком смысле этого слова. Для Есенина осталось глубоко органичным то, что было заложено в его раннем творчестве, то, что шло от первых юношеских впечатлений, уклада деревенской жизни, окружающей природы, духовного мира русского крестьянства.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"