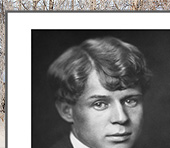


4. Особняк на Пречистенке. - Чай для русских и иностранцев. - Золотая чашка. - Л. Б. Красин и "Ave Маria". - Первые "дунканята"
Наступили дикие холода, я штурмовал Луначарского, пытаясь отвоевать для Дункан комнаты балерины Балашовой в ее особняке на Пречистенке, которые были опечатаны ВЧК после бегства Балашовой за границу. Все остальные помещения в особняке были заняты вначале различными учреждениями - Центропленбежем, МУЗО Наркомпроса и т. д.
..."Пречистенка была улица конюшея, касаяся почти самому Боровицкому мосту, а следовательно конюшему и колымажному дворам. На Девичьем поле книли сено на Государевы конюшни, а на Остоженке ставили стоги...", - писал знаменитый, времен Екатерины, русский архитектор В. И. Баженов.
Две улицы, Остоженка и Пречистенка*, взяв начало одна у Крымской площади, а другая у Зубовской, бежали рядышком, все сближаясь и сближаясь. Сбежав под горку, они вливались в площадь у Пречистенских ворот, где в зеленом сквере белел громадный храм Христа спасителя, блиставший своими главами, которые дали материал для арифметических задачников, требовавших решать, сколько золота пошло на покрытие его куполов.
* (Метростроевская и Кропоткинская.)
Обе древние московские улицы у самых своих устьев натыкались на неуклюжий дом, не дававший им окончательно соединиться и выходивший прямо на площадь. Дом этот горел еще при Наполеоне, потом, простояв десятки лет памятником московского пожара, был кое-как восстановлен и стоит до нашего времени*, поглядывая узкими окошками на то, как храм будто провалился сквозь землю, оставив открытым огромный котлован, как мгновенно исчезла розовая церквушка, выстроенная "во искупление грехов" Малютой Скуратовым, как слева вдруг выскочила из-под земли полукруглая арка с пылающей над ней буквой "М", как до этого вздыбилась старая Остоженка, которая, скинув трамвайные рельсы и вывернув свое чрево, приняла в него тоннели метро. А до этого дом испытал дни, когда старую штукатурку на его стенах разбивали октябрьские пули, видал, как на его узеньких глазах по обеим дряхлым улицам понесся широкий размах новой молодой жизни, как приняли они новый облик и новые имена, как принаряжались и хорошели они, румянясь алыми стягами, в дни светлых праздников, когда по руслам их текли шумные, поющие толпы людей, плясавших при остановках прямо на булыжной мостовой, которая расстелила потом для них и асфальтовые полотнища.
* (Дом снесен в 1972 году.)
На Пречистенке, почти на углу Мертвого переулка, окрещенного этим зловещим названием со времен московской чумы, стоит солидный двухэтажный особняк с рядами высоких зеркальных окон в верхнем этаже и более низких - в нижнем; с балконом в середине фасада, с оцинкованной крышей, выпершей в центре большой купол, увенчанный вазой, и с двумя такими же вазами на углах. Рядом с особняком - старое здание бывшей Хамовнической полицейской части, с нелепой пожарной каланчой*, под которой можете увидеть окошко, откуда тоскливо смотрел в утро своего первого ареста юный Герцен, заплакавший при виде въехавшей во двор пролетки с их кучером, привезшим ему вещи и провизию.
* (Ныне снесена.)
К этим воротам подкатила и коляска, с которой легко соскочил Грибоедов и прошел во двор, волнуясь, что сейчас он увидит живущего здесь "покорителя Кавказа" - генерала Ермолова. Говорят, что особняк построен на том самом месте, где когда-то стоял дом с садиком доктора Лодера. Иностранный врач лечил московскую аристократию минеральными водами, которые его пациенты пили тут же, после чего им предписывался "моцион" - длительная прогулка по дорожкам садика. Проходивший мимо народ наблюдал пышащих здоровьем "больных", бегавших по садовым дорожкам доктора Лодера, и окрестил эту лечебную процедуру своими словами, оставшимися в русском языке: "Лодыря гоняют"...
Новый особняк на этом месте построил водочник Смирнов, продавший его потом миллионеру Ушкову (чайная фирма "Губкин и Кузнецов"), которому дом так понравился, что он построил точную копию его еще и в Казани. Вход в особняк вчерчен двумя приземистыми колонками с левого бока фасада, где в маленькой нише темнеет тяжелая дубовая дверь. За нею вестибюль с колоннами и росписью на потолке в стиле портиков Геркуланума и Помпеи, извлеченных из-под лавы. У стен две большие и холодные мраморные скамьи со спинками и с усевшимися на локотниках фавнами. Ни летом ни зимой присесть на ледяные скамьи нельзя и сдвинуть их с места невозможно. Широкая лестница белого мрамора ведет в огражденный мраморной балюстрадой вестибюль с колоннами розового дерева, испещренными золотой лепкой. Задрав голову, вы встречаете взгляды десятка римских и греческих красавиц, взирающих на вас с потолка, в котором каждой из них отведена клетка в скульптурной раме.
Все двери в особняке высокие, двустворчатые, с украшениями из бронзы и с барельефом голов Жозефины и Наполеона. Одноглавые бронзовые орлы, будто спугнутые с древков наполеоновских штандартов, настороженно сидят на высоких карнизах... Прямо из вестибюля - два "наполеоновских" зала. В обоих огромные, в широченных тяжелых рамах картины батального характера с Наполеоном во весь рост на первом плане. Дальше - гостиная "севр", со стенами, обитыми розовым в цветах атласом, где из всего фарфора уцелела одна великолепная люстра. За гостиной - "восточная комната" в мавританском стиле, с вызолоченным жерлом камина, со стенами и потолком, покрытыми сплошными лепными узорами из золота и ярких красок. Еще дальше - двусветный заброшенный "зимний сад" со стоячим, нагретым воздухом, с каменной, вьющейся книзу лестницей, с какими-то сохранившимися зачахшими растениями в подвесных горшочках, с парой запыленных пальм и маленьким бассейном молчаливого, высохшего и потому кажущегося грустным фонтана...
Этот дом был предоставлен Московской школе Айседоры Дункан. Там же мы и жили. Вспоминаю, как потом я увидел однажды Айседору молча стоящей на белой мраморной лестнице особняка. Она исподлобья оглядывала балашовских потолочных красавиц, мраморную балюстраду, испещренные золотой лепкой колонны розового дерева... Потом сказала:
- Я давно говорю, что нужно содрать всю эту позолоту вместе с римлянками и гречанками и выбелить все!
Помню, после Февральской революции, когда в Большом театре был устроен какой-то благотворительный бал, мне пришлось заехать к Балашовой. Она провела меня по всему особняку, показала даже свою спальню, похожую на небольшой зал и отделенную от будуара маленькой гардеробной.
Этот зал-спальня стал потом комнатой Айседоры Дункан.
Войдя впервые в особняк, Дункан скривила губы при виде потолочных красавиц, облепленных золотом колони и бронзовых барельефов.
В своей комнате Айседора опустилась в кресло и залилась неудержимым смехом:
- Кадриль! - кричала она, заразительно смеясь. - Chanqez vos places!*
* (Меняйтесь местами! (франц.). Возглас распорядителя танцев в одной из фигур кадрили.)
Оказалось, что балерина Балашова, бежав из Советской России, приехала в Париж и в поисках особнячка попала на Rue de La Pampe, 103 - в дом, принадлежащий Дункан.
Дом представлял собой обширную, затянутую строгими, в складках, сукнами студию с несколькими комнатами, ванной и холлом. Никаких украшений и аляповатостей, гладкие ковры и портьеры, немного хорошей стильной мебели и мраморная ванна - все это никак не удовлетворило бывшую владелицу особняка на Пречистенке, куда теперь, по игре случая, вошла Дункан, также не оценившая "купеческого ампира", который прельщал Балашову.
Айседора завесила шалями лампы и бра в своей комнате, в комнате Ирмы, и "жизнь на Пречистенке" началась.
Появились гости, но на первых порах почти не было посуды - пи стаканов, ни чашек, ни блюдец. Зато стояла целая шеренга больших стеклянных бокалов, и пить чай приходилось из них. Навещавшие Дункан иностранцы полагали, что русские, любящие чаепитие, предпочитают пить этот душистый напиток из винных и пивных бокалов. А русские в свою очередь удивлялись неудобным "заграничным обычаям"...
Я принес из дома кое-какую посуду. Но это были "кузнецовские", "гарднеровские" и "поповские" коллекционные чашки с блюдцами и еще несколько узких хрустальных бокалов для шампанского.
Среди принесенных мною чашек была одна особенная - золотая, "кузнецовская", тончайшего фарфора. Когда потом Есенин появился на Пречистенке, эта чашка очень понравилась ему, и он всегда пил чай только из нее. Внутри она была ослепительно белой, а внешние стороны ее, рифленые, сверкали чистым золотом. Есенин восторгался ее необычайной легкостью и тонкостью фарфора.
- Вот все говорят: китайский фарфор, французский! - восклицал он. - А посмотрите каков наш, русский!
Эту хрупкую чашку я потом сохранял долгие годы, но однажды неловкий гость, приподняв ее с блюдца, вертя в руках и приговаривая: "Подумать только, что из нее пил Есенин!" - уронил чашку на стол, она треснула, один золотой кусочек отвалился.
Чашку склеили, и никто из нее никогда уже больше не пил. Совсем недавно я расстался с чашкой, подарив ее тезке Есенина, поэту Сергею Александровичу Васильеву в день его 60-летия.
Айседора скучала. Официальные визитеры постепенно схлынули. Школа уже имела большой обслуживающий персонал в шестьдесят человек и целый "организационный комитет", заседавший то в том, то в другом зале.
Вечером приходили знакомые.
Был среди них австрийский посланник - доктор Поль; впоследствии он покинул свой дипломатический пост и, оставшись в Советской России, возглавил большое издательство на немецком языке, имевшее общеевропейское значение.
Заезжал Луначарский. Однажды, предупредив заранее, приехал Леонид Борисович Красин. Он был большим любителем музыки, ценил искусство Дункан и был одним из горячих сторонников ее приезда из Лондона в Москву. Дункан решила доставить ему удовольствие - станцевать "Ave Maria" Шуберта - его любимую вещь.
Комитет ежедневно обещал объявить прием детей, но почему-то бесконечно откладывал этот самый важный для Дункан момент, означавший для нее начало работы, к которой она так стремилась.
С тех пор как Луначарский не разрешил Дункан работать в системе Всевобуча, я отстранился от всякого непосредственного участия в организационной работе и лишь по-прежнему поддерживал контакт с самим Луначарским.
Айседора раздражалась:
- Я хочу только "черни хлеб, черни каша", но тысячу детей и большой зал...
Тысяча детей и большой зал были, конечно, утопией.
В Москве было плохо с топливом. Луначарский мог обещать только небольшую школу с интернатом на 40 детей.
Айседора мрачнела. Я тут же стал убеждать ее, что эта группа станет "фалангой энтузиастов", будущими инструкторами. Айседора согласилась, но от своей мечты не отступилась...
Вечером я пошел в редакцию "Рабочей Москвы", написал там короткую заметку об открытии в Москве школы Айседоры Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет и примечание: предпочтение при приеме отдается детям рабочих.
В тот же вечер Айседора, Ирма и я, вооружившись молотками, гвоздями и лестницей-стремянкой, повесили небесно-голубые сукна Айседоры в "наполеоновском зале", завесив и Наполеона, и солнце Аустерлица, и затянули паркетный пол гладким голубым ковром.
- Теперь свет, свет! - кричала Айседора. - Эту люстру убрать невозможно! Сколько в ней тонн? Но мы ее преобразуем! Революция так революция! A bas Napoleon!* Солнца, солнца! Пусть здесь будет теплый солнечный свет, а не этот мертвящий белый! - не успокаивалась она.
* (Долой Наполеона! (франц.))
Я понимал требовательность Дункан. Ее искусство органически требовало полнейшей гармонии музыки и света. Она, конечно, была далека от технологии светооформления, так же как и от законов физики, она говорила просто о вещах, казавшихся ей само собой разумеющимися.
- Вы ведь не представляете себе, чтобы кто-нибудь танцевал "Ноктюрн" Шопена в красном свете, а "Военный марш" Шуберта - в синем? Вспомните знаменитого слепого у Джона Локка в "Опытах о человеческом разуме". Он представляет себе пурпурный цвет как звук трубы...
Нелюбовь Дункан в мертвому белому свету зижделась на тяготении ко всему природному, естественному, в том числе и к теплому солнечному свету. Она категорически запрещала, чтобы прожектор "следил" за ее движениями на сцене.
- Солнечные лучи не бегают за человеком,- говорила она.
Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую вместо лампионов и свеч большую лампу, и Айседора затянула ее оранжево-розовой шалью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана, и в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба...
Айседора предупредила комитет, чтобы к утру все было готово для записи и осмотра детей. Утром же, едва газета с заметкой попала в руки родителей, дети появились: множество девочек и несколько мальчиков. Комитет недаром так долго корпел над своим "положением о школе": родители привели детей в "школу танца".
Врач осматривал детей, а мы помогали записывать и давали объяснения родителям. Я смотрел, как Тамары, Люси, Мани, Нины, Юли, Лиды то стояли дичком, то шушукались, то вырывались из рук матерей, чтобы взбежать по широкой лестнице белого мрамора, и не думал, что отныне на долгие, долгие годы буду свидетелем их жизни, творчества, их счастья и горечи утрат, побед и поражений в искусстве.
Итак, школа была создана.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"