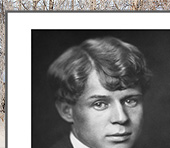


5. Встреча с Есениным. - "Энергичные слова". - Поэты. - Есенин читает свои стихи. - Три дарственных надписи. - Игра в корни. - "Волчья - гибель". - Белые бумажки. - Николай Клюев. - С. Т. Коненков

Сергей Есенин и Николай Клюев. (Петроград, 1915 г.)
Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров.
(Якулов - автор проекта памятника 26 бакинским комиссарам. Он работал над этим проектом в то время, когда Есенин был в Баку. "Баллада о двадцати шести" посвящена Якулову.)
Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на московской улице в тот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше пятидесяти лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры...
- У меня в студии сегодня небольшой вечер, - сказал Якулов,- приезжайте обязательно. И, если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов.
Я пообещал. Дункан согласилась сразу.
Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около "Аквариума", на Садовой.
Появление Дункан вызвало мгновенную паузу, а потом - начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы: "Дункан"!
Якулов сиял. Он пригласил нас к столу, но Айседора ужинать не захотела, и мы проводили ее в соседнюю комнату, где она, сейчас же окруженная людьми, расположилась на кушетке.
Вдруг меня чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он промчался, крича: "Где Дункан? Где Дункан?"
- Кто это? - спросил я Якулова.
- Есенин... - засмеялся он.
Я несколько раз видал Есенина, но тут я не сразу успел узнать его.
Немного позже мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам: скандируя по-русски:
- За-ла-тая га-ла-ва...
(Это единственный верно описанный Анатолием Мариенгофом эпизод из эпопеи Дункан - Есенин в его нашумевшем "Романе без вранья".) Трудно было поверить, что это первая их встреча, казалось, они знают друг друга давным давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер.
Якулов познакомил нас. Я внимательно смотрел на Есенина. Вопреки пословице: "Дурная слава бежит, а хорошая лежит", - за ним вперегонки бежали обе славы: слава его стихов, в которых была настоящая большая поэзия, и "слава" о его эксцентрических выходках.
Роста он был небольшого, при всем изяществе - фигура плотная. Запоминались глаза - синие и как будто смущающиеся. Ничего резкого - ни в чертах лица, ни в выражении глаз.
...Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял: "Мне сказали Дункан в "Эрмитаже". Я полетел туда..."
Айседора вновь погрузила руку в "золото его волос"... Так они "проговорили" весь вечер на разных языках буквально (Есенин не владел ни одним из иностранных языков, Дункан не говорила по-русски), но, кажется, вполне понимая друг друга.
- Он читал мне свои стихи, - говорила мне в тот вечер Айседора,- я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал genie!*
* (Гений (франц.))
Было за полночь. Я спросил Айседору, собирается ли она домой. Гости расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся: ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом.
- Очень мило, - сказал я. - А где же я сяду?
Айседора смущенно и виновато взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже... приревновал Айседору.
Я пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айседоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом, за Смоленским, свернула и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому переулку, выходящему на Пречистенку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то...
Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айседорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнув и протянув знаменитое "но-о-о", успокоился. Айседора снова попросила поторопить его. Вся "процедура" повторилась с прежним результатом.
- Вы не то говорите ему, - рассердилась Айседора. - Вот Езенин (она так произносила его фамилию) говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро...
Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он-де - "не кислое молоко везет", и даже поинтересовался, "не крысу ли он удавил на вожжах", но и это не помогло.
- Нет, нет, - сказала Айседора, - это не те слова. Езенин говорит что-то очень короткое, энергичное... Я не могу вспомнить... Ну, вот как при игре в шахматы... После этого они сразу гонят лошадей...
Помнится, я все же не рискнул применить этот "лексикон" в присутствии Айседоры.
Но в то первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.
- Эй, отец! - тронул я его за плечо. - Ты, что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь.
Есенин встрепенулся и, узнав в чем дело, радостно рассмеялся.
- Повенчал! - раскачивался он в хохоте, ударяя себя по коленям и поглядывая смеющимися глазами на Айседору.
Она захотела узнать, что произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула:
- Manage...*
* (Свадьба (франц.).)
Наконец, извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку и остановился у подъезда нашего особняка.
Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались.
Айседора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь:
- Иля Илич... ча-ай?
- Чай, конечно, можно организовать,- сказал я, и мы все вошли в дом.

Слева направо: А. Мариенгоф, С. Есенин, А. Кусиков, А. Шершеневич. (Москва, 1920 г.)
С появлением Есенина в доме на Пречистенке здесь стали бывать поэты-имажинисты. Чаще других - Анатолий Мариенгоф, молодой, высокий и очень красивый мужчина; Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Кусиков, Ваня Старцев. Ваня Старцев был совсем молодой, жизнерадостный парень, но отъявленный неряха. Поэты сложили по этому случаю про него и про Есенина частушку:
Ваня ходит неумыт, А Сережа чистенький, Потому - Сережа спит Часто на Пречистенке.
Как-то Есенин сказал ему:
- Вот, Ваня, я знаю наизусть стихи многих поэтов, а вот твои... Знаю наизусть полное собрание твоих сочинений! (Этот Ваня за всю свою жизнь написал... одно стихотворение.)
Их было много, этих имажинистов, они вились вокруг Есенина, подобно мошкаре в солнечном луче... Впрочем, не только имажинисты... Бывал, например, некто Гриша Колобов, которого поэты прозвали "Почем-соль": он служил инспектором Всероссийской эвакуационной комиссии, имел свой салоп-вагон. Прибыв па место, первым долгом осведомлялся: "Почем соль?" - и, закупив не один мешок, доставлял в своем салон-вагоне в Москву, меняя соль на водку и прочее, и поил и угощал своих друзей-поэтов.
Есенин вошел в группу имажинистов в 1919 году. Тогда ему казалось, что их роднит близость литературных позиций. А этой пустой и довольно реакционной группке, питавшейся остатками российского декадентства, Есенин был необходим: его имя было хорошей рекламой.
На первых порах имажинисты оказали на Есенина вредное влияние. Но Есенин остался Есениным. "Слово о полку Игореве" - вот откуда, может быть, начало моего имажинизма",- говорил Есенин литературоведу Ивану Никаноровичу Розанову.
Впрочем, имажинисты были еще и предприимчивыми "хозяйчиками": книжная лавка на Никитской, издательства, гастрольные поездки и кафе "Стойло Пегаса" на Тверской - все эти "доходные предприятия" также входили в программу имажинизма.
"Близость Есенина с имажинистами в значительной степени носила бытовой характер и объяснялась самим характером литературной жизни того времени, когда множились многочисленные литературные группы и группки..."
"...Главное в Есенине - народное зерно, которое само прорастало навстречу солнцу Октября, вопреки всем крутым изломам, всем настроениям, всем перипетиям и передрягам в его жизни. И именно в первые пооктябрьские годы в творческом развитии Есенина происходил процесс очищения от народности сусальной, клюевской и рождалось новое реалистическое восприятие действительности в духе задач новой советской литературы"*.
* (К. Зелинский. На рубеже двух эпох. М., "Советский писатель", 1959, стр. 215 и 225.)
Помню, как много позднее на Пречистенке собрались под вечер гости. Среди них - и поэт Рукавишников, носивший очень длинную козлиную бородку. Ждали Луначарского. Я был занят внизу, в школе, и не поднимался наверх, хотя Айседора уже два раза присылала за мной. Наконец, кто-то прибежал в третий: Айседора срочно звала меня.
Войдя в комнату Айседоры, я увидел такую картину: на диване с золотыми лебедями сидел в напряженной воинственной позе Есенин, со злым и решительным выражением лица. Рядом тихо ссутулился Рукавишников. Есенин крепко держал его за козлиную бородку, целиком зажав ее в кулаке.
- Что же вы не шли? - зашептала Айседора. - Он уже двадцать минут держит его так.
Когда я подошел к дивану, Есенин заулыбался, отпустил Рукавишникова, встал и поздоровался со мной. Вообще он при мне почему-то всегда сдерживался. Никогда я не слышал от него ни одного резкого слова. Айседора этим пользовалась. Сердиться на него было невозможно: его лицо расцветало такой детской, ангельской улыбкой, синевой смущенных глаз...
- Сергей Александрович! Что вы себе позволяете? - тихо сказал я ему.
А он громко ответил мне:
- Илья Ильич! А зачем он стихи пишет? Пусть не пишет.
Но думаю, что дело было не только в плохих стихах, которые писал Рукавишников: "прилипалы" мешали Есенину работать.
Через несколько месяцев, в марте 1922 года, в письме к поэту Р. В. Иванову-Разумнику Есенин писал: "...живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко..."
Дружил он, кажется, только с одним Мариенгофом. Жили они вместе в одной комнате, рядом с театром Корша, в Богословском переулке. Вместе щеголяли в новеньких блестящих цилиндрах. Впрочем, эксцентричность эта объяснялась весьма прозаически. Очутившись, уже не помню почему, в Петрограде без шляп, Есенин и Мариенгоф безуспешно обегали магазины. И вдруг обнаружили сиротливо стоящие на пустой полке цилиндры. Один из них Есенин немедленно водрузил себе на голову, а Мариенгофу с его аристократическим профилем и "сам бог велел" носить цилиндр.
Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно и чаще всего "Исповедь хулигана" и монолог Хлопуши из поэмы "Пугачев", над которой в то время работал. В интимном кругу читал он негромко, хрипловатым голосом, иногда переходившим в шепот, очень внятный; иногда в его голосе звучала медь. Букву "г" Есенин выговаривал мягко, как "х". Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то одному ему видные рязанские дали, он почти шептал строфу из "Исповеди":
Бедные, бедные крестьяне! Вы, наверное, стали некрасивыми, Так же боитесь бога...
"И болотных недр..." - заканчивал он таинственным шепотом, произнося "о" с какой-то особенной напевностью.
Со сцены он, наоборот, читал громко, чуть-чуть "окая". В монологе Хлопуши поднимался до трагического пафоса, а заключительные слова поэмы читал на совсем замирающих тонах, голосом, сжатым горловыми спазмами:
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
Он так часто читал монолог Хлопуши, что и сейчас я явственно вижу его и слышу его голос:
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
...Брови сошлись, лицо стало серо-белым, мрачно засветились и ушли вглубь глаза. С какой-то поражающей силой и настойчивостью повторялось:
Проведите, проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека.
Существующая запись голоса Есенина (монолог Хлопуши из "Пугачева") не дает полного представления о потрясающем таланте Есенина-чтеца. Слишком несовершенна тогда была техника записи, и Есенина, очевидно, заставили сильно повысить голос. Ведь не Есенина вина в том, что он после переезда из Петрограда в Москву сразу попал в какое-то дурное богемное окружение, но тот, кто любит Есенина, легко разберется, что в его так называемом "хулиганстве" было гораздо больше измученности, растерянности, бравады, показного, что ли, хулиганства.
Много написали и наговорили о Есенине - и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий...
Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.

Федор Андреевич Титов, дед поэта
Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.
Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: "Пишу, говорят, без помарок... Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом..."
Я не раз видел у Есенина его рукописи, особенно запомнились они мне, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с "помарками" (он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки - "для сборников").
Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением "Не жалею, не зову, не плачу...", тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал: "О, моя утраченная свежесть!.." - и вдруг дважды произнес: "Это Гоголь, Гоголь!" Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова ответил: "Перечитайте "Мертвые души".
Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к 6-й главе "Мертвых душ" па следующие строчки: "...то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и неумолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание храпят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!"
Над "Пугачевым" Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего "Пугачева" и был им поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об издании ее отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто: "Пугачов".
Он тут же сделал на одной из них коротенькую надпись и подарил книжку мне. Но у меня ее очень быстро стащил кто-то из есенинской "поэтической свиты". Я заметил эту пропажу лишь тогда, когда Есенин и Дункан уже колесили по Европе. Было очень досадно, тем более что я не запомнил текста дарственной надписи. Такая же участь постигла и книжку, подаренную Есениным Ирме Дункан.
Айседоре на экземпляре "Пугачова" Есенин сделал такую дарственную надпись: "За все, за все, за все тебя благодарю я..." (Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки не шла от незнания текста.)
В этом экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки:
...Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем: он сидел за большим красного дерева письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный.
Писал он в тот день "Волчью гибель". Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и, держа листок в руках, предложил послушать...
Между прочим, на одном из заседаний "есенинской группы" Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, подготавливавшей к изданию полное собрание сочинений С. Есенина в 5-ти томах, возник спор: как читать 17-ю и 18-ю строки этого стихотворения:
Пусть для сердца тягуче колка Эта песня звериных прав...
или:
Пусть для сердца тягуче колко. Это песня звериных прав!...
Остановились на втором варианте. Но я был первым слушателем этого стихотворения в исполнении самого Есенина. Есенин читал: "Пусть для сердца тягуче колка эта песня звериных прав". Однако противопоставить восприятие на слух мнению "есенинской группы", в работе которой я тоже принимал участие, я не мог: текстологических доказательств у меня не было.
Под заглавием "Волчья гибель" стихотворение это было несколько раз опубликовано, но в беловом автографе Есенин вычеркнул название, теперь оно озаглавлено первой строкой: "Мир таинственный, мир мой древний..."
Между прочим, тот самый Ваня Старцев, который стал потом руководителем "Стойла Пегаса", а в будущем - уважаемым редактором Иваном Ивановичем Старцевым, доброжелательным, хорошим человеком, упоминая в своих воспоминаниях о есенинской "своеобразной манере в работе" - заранее вынашивать в голове материал, а потом "быстро и легко облекать его в стихотворный наряд", - пишет, что ему "показалось однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано (по существу, оформлено на бумаге) стихотворение "Волчья гибель".
Есенин прочитал Старцеву написанную им с маху "Волчью гибель". А далее Иван Иванович пишет: "Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им уже спустя некоторое время по мере того, как он прислушивался к собственному голосу и чтению".
Вот в этом и разгадка: Есенин прочитал Старцеву "стилистически отделанную" и написанную им ранее на Пречистенке "Волчью гибель". И читал он это стихотворение на Пречистенке не только мне. А в "Стойле Пегаса", по словам Старцева, прочитал его впервые в тот же день, когда прочитал ему.
Русский язык Есенин любил страстно, знал многие говоры и наречия, знал и древнеславянский.
- Бях, бяше, бяшеть... Бых, бы, бысть,- смеясь, тарабанил он и тут же добавлял что-то и о канувшем в вечность "двойственном" числе, и об утраченных "счетном" и "местном" падежах, которые хотя и исчезли из грамматики, но остались жить и в литературном языке, и в разговорном.
Есенина возмущали печатные и устные языковые небрежности.
Не случайностью является и то, что Есенин не изучал ни одного иностранного языка.
Как-то в разговоре он сказал мне, что ему "это мешало бы". В одном письме из Америки Есенин писал: "...Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски".
Он часто затевал игру в "отыскивание" корней. Усаживал поэтов из своей "свиты" и меня в кружок и предлагал называть любые слова. Не успевал кто-нибудь назвать слово, как Есенин буквально "выстреливал" цепочкой слов, "корчуя" корень.
- Стакан! - кричал кто-нибудь из нас...
- Сток - стекать - стакан! - "стрелял" Есенин.
- Есенин! - подзадоривал кто-то.
- Осень - ясень - весень - Есенин! - отвечал он.
Обладая несметными россыпями слов, он в тот период, когда мне привелось общаться с ним, может быть, под влиянием своего имажинистского окружения, бросался иногда на какие-то совсем не нужные ему эксперименты.
Однажды, когда он до окончательного переезда на Пречистенку жил еще в Богословском переулке, я заехал к нему днем и застал его сидящим на полу, окруженным разбросанными повсюду маленькими, аккуратно нарезанными белыми бумажными квадратиками.
Не поднимаясь, он радостно объявил мне:
- Смотрите! Замечательно получается! Такие неожиданные сочетания!
На обратной стороне бумажек были написаны самые разнообразные, не имеющие никакого отношения друг к другу слова. Есенин брал по одной бумажке справа и слева, читал их, отбрасывал, брал другие и вдруг вспыхивал, оживлялся, когда какое-нибудь случайное и невероятное сочетание будоражило его мысль, вызывая метафоры, которые, как он выразился, "никогда не пришли бы сами в голову!"
- Зачем вам это нужно? - удивился я. - Ведь это чистая механика!
Есенин рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола:
- Я поеду с вами! Вы на извозчике? На Пречистенку? - и быстрыми мелкими шагами устремился по коридору к выходу.
Мне довелось еще раз увидеть эти "квадратики", на
Которых характерным почерком Есенина (буквы не соединяются и рассыпаны, как зерна) написано: "снег", "огонь", "лист", "осень", "дерево", "горит", "плачет", "жует", "падает", "синий", "розовый", "красный".
На одной из выставок, организованных Литературным музеем, они фигурировали в качестве экспоната, демонстрирующего "метод" поэта. Табличка гласила: "Слова на отдельных листочках бумаги, которые Есенин раскладывал, составляя различные комбинации стихотворных строк".
Это меня огорчило. Ведь он стремился к пушкинской ясности, а не к сочетанию слов, взятых слева и справа. Игра в "слова" была всего лишь чудачеством, забавой...
Вот что нашел К. Зелинский в записях А. Серафимовича о Есенине:
"С огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших - ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не спрашивая, никому не подражая... Чудесное наследство"*. Серьезнее было ранее увлечение "триптихами богородицы", культом "рогожной", "сермяжной" Руси, след детских лет и влияния на Есенина поэзии Николая Клюева, его "духовного отца" и "наставника" в годы юности.
* (К. Зелинский. На рубеже двух эпох. М., "Советский писатель", 1959, стр. 231.)
...В 1915-1916 годах в концертах знаменитой исполнительницы русских народных песен Плевицкой появился новый участник. В аккуратной синей поддевке, в смазных сапогах и с подстриженными под скобку волосами, приглаженными растительным маслом, он выходил "первым номером" на эстраду, низко, в пояс кланялся публике, разгибался и, помолчав, говорил, резко "окая":
- Я не поэт, а мужик.
Это был Николай Клюев. Одна из его книг - "Сосен перезвон" - имела успех. Клюева заметил Блок.
Соблазнившись путешествиями, я, не бросая журналистики, несколько лет работал в крупнейшей российской гастрольной организации, возглавляемой очень интересным человеком - В. Н. Афанасьевым. (В свое время он был приговорен царским судом к смертной казни через повешение за революционную деятельность, но бежал из тюрьмы и жил под чужой фамилией.) Здесь я и столкнулся с Клюевым.
Трудно было разгадать этого "мужика". Он был умен, а "работал под дурачка". Был хитер, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым. В одной из поездок, когда он на ходу пробирался из вагона в вагон, ветром унесло его шапку. Несмотря на предзимнее время, Клюев до конца поездки так и не купил новой, потому что в Москве у него была вторая шапка.
Вокруг шеи он наматывал шарф необычайной длины. Причем невероятно медленно и методически, и этим почему-то приводил всех нас в бешенство.
Помню, как мы, направляясь из Москвы на концерт Плевицкой во Владимир, сели в новенький вагон III класса - "зеленый",- в поезде местного сообщения не было ни "желтых", ни "синих".
В купе Клюев начал разматывать свой шарф, предварительно заняв себе "верхнюю полочку" (его выражение) каким-то аккуратненьким деревянным чемоданчиком. Мы нетерпеливо ждали конца этой процедуры, так как собирались играть в карты. На этот раз Клюев разоблачался дольше, чем обычно. Мы готовы были растерзать его. Когда он наконец тщательно сложил шарф наподобие подушки и, осторожно взобравшись на полку, замер, мы заговорщицки переглянулись и, убедившись, что Клюев мгновенно заснул, стали тут же надевать свои пальто и шляпы, схватили чемоданы и разбудили Клюева:
- Подъезжаем к Владимиру!
А поезд наш, взяв разгон, мчался еще мимо пустых и посеревших подмосковных дач.
Клюев молча и неторопливо начал наматывать шарф в обратном направлении, прихватывая по-кучерски остриженные волосы на затылке. Увидев, что мы открываем дверь купе, он заторопился и, протиснувшись вперед, быстро прошел по пустому коридору на площадку, чтобы быть первым и при выходе.
Мы задвинули обратно дверь, разделись и сели за карты. Клюев пробыл на площадке часа полтора. Он давно понял, что его разыграли, но упорно продолжал стоять в тамбуре. Это было, конечно, жестоко с нашей стороны, и Плевицкая ругала нас, но мы решились на эту злую шутку внезапно и единодушно.
Промерзнув на площадке, Клюев вернулся в купе и, не глядя на нас, размотал шарф. Затем улегся в прежней позе - "на бочку" - и замер. За всю поездку он не проронил ни слова.
Потом я долго не видел Клюева. Есенин много говорил о нем, читал его стихи и однажды появился на Пречистенке с ним и с Коненковым - высоким, широкоплечим, крепким и моложавым. А Клюев был все тот же: в неизменной поддевке, в русской косоворотке, в сапогах, с теми же промасленными волосами и елейным выражением лица. Только шарф сгинул куда-то, но я уверен: шапка была та, вторая, оставленная в Москве.
Обращался Есенин к этому времени с Клюевым не по-сыновьи, снисходительно и скрытно-враждебно.
Однажды произошел такой случай.
Айседора попросила Клюева почитать стихи. Клюев читал много и охотно. Айседоре, не знавшей русского, стихи понравились своей напевностью.
- Надо, - обратилась она ко мне, - чтобы Клюев преподавал детям русскую литературу.
Я начал ей объяснять, что по наркомпросовским правилам это запрещено. Вдруг Есенин:
- Ни в коем случае не допускайте этого. Вы не знаете политических взглядов Клюева. Да и вообще - это ерунда!
Да и Клюев, хотя и елейничал с Есениным и даже лебезил перед ним, иногда вдруг огрызался. Помню, как однажды Есенин сказал Клюеву:
- Старо! Об этом уже и собаки не лают! Не съедите нас!
Клюев сначала ощетинился, потом, глянув на Айседору, слащаво улыбнулся и, тыча в сторону Есенина большим пальцем, ядовито пропел:
- В Рязани пироги с глазами, их ядять, а они глядять!
Дункан, конечно, ничего не поняла. (Позднее я встретил эту же фразу, кажется, в одном из писем Клюева к Есенину.)
Есенин рывком поднялся из-за стола. В потемневших глазах его была ненависть. Клюев смиренно остался сидеть. Айседора теребила меня: "О чем они?".
Где-то С. Городецкий, поэт и современник Есенина, писал, что даже у близких Клюеву людей возникали к нему приступы ненависти и что Есенин однажды сказал: "Ей-богу, я пырну ножом Клюева!"
Позднее Есенин писал о своем бывшем учителе:
И Клюев, ладожский дьячок, Его стихи, как телогрейка, Но я их вслух вчера прочел, И в клетке сдохла канарейка.
Клюев своеобразно "отомстил" Есенину, создав легенду, которой ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Вс. Рождественский.
По словам Клюева, Дункан налила ему из самовара "чаю стакан крепкого-прекрепкого", Клюев "хлебнул", и у него "глаза на лоб полезли". Оказался коньяк... "Вот,- продолжается повествование со слов Клюева, - думаю, ловко! Это они с утра-то, натощак - и из самовара прямо! Что же за обедом делать будут?"
У Дункан никогда не было никакого самовара, за исключением двухведерного, стоявшего внизу в детской ванной.
Позднее, когда Клюев оказался в Вытегре, Есенин получал от него большие письма, написанные "при огарке" карандашом, на длинных узких листочках бумаги, и раза два отправлял ему посылки с продуктами.
- Он должен был кончить этим... - сказал как-то Есенин.
Есенин дружил с Коненковым. Они были знакомы с 1918 года. Вечерами Есенин иногда тормошил всех:
- Едем на Красную Пресню! Изадора - Коненков!
На Красной Пресне помещалась маленькая студия-мастерская Коненкова, насквозь промороженная, несмотря на две установленные там печи.
На Красной Пресне нас встречали выточенные из дерева русские Паны - лесные божки с добренькими и проницательными глазками. Коненков представлял их нам, называя "лесовичками". В мастерской лежали пни и чурбаны и пахло свежим деревом и лесом.
В 1918 году к первой годовщине Октября в кремлевской стене, на Красной площади была установлена в память бойцов, павших в октябрьских боях в Москве, большая мемориальная доска работы Коненкова, скрытая теперь за Мавзолеем В. И. Ленина и имеющая надпись:
ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ
Над этой доской Коненков работал во дворе своей мастерской. Доска лежала на земле, и над нею были построены высокие лестницы, по которым неустанно взбирался и опускался Коненков, увлеченный этой захватившей его и столь ответственной работой.
В эти дни Есенин часто бывал в мастерской Коненкова и вместе с поэтами М. П. Герасимовым и С. А. Клычковым написал "Кантату", посвященную бойцам Октября, захороненным у кремлевской стены:
Спите, любимые братья, Снова родная земля Неколебимые рати Движет под стены Кремля. Новые в мире зачатья, Зарево красных зарниц... Спите, любимые братья, В свете нетленных гробниц. Солнце златою печатью Стражем стоит у ворот... Спите, любимые братья, Мимо вас движется ратью К зорям вселенским народ.
Коненков приходил и в студию Айседоры, подолгу смотрел на нее танцующую. Расспрашивал о Родене, с которым Дункан была в большой дружбе. Она рассказывала, как Роден впервые приехал к ней в Париж и она танцевала перед ним. После одного танца Роден поднялся и двинулся к ней. Он схватывал пальцами и мял и ломал, как глину, ее руки...
- Я была слишком молода и глупа тогда - я оскорбилась и оттолкнула его!.. Родена! Я так упрекала потом себя за это. Я не должна была отталкивать его.
Коненков выточил из дерева две статуэтки танцующей Айседоры и подарил ей. Она увезла их во Францию. Что случилось с ними после ее гибели, я не знаю. Они были прекрасны.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"