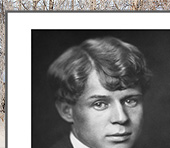


10."Остров слез". - "Коммунизм является единственным выходом для мира!" - Конная полиция в партере. - "Железный Миргород". - Кинозвезда Англии. - Снова Париж. - Есенин уезжает в Берлин. - Автомобильная скачка с препятствиями.- Отъезд в Москву
Люди, не видавшие никогда гигантских стимеров, пересекающих океан, пожалуй, удивятся, узнав, что на этих пароходах, высотою с многоэтажный дом, команда и обслуживающий персонал насчитывают до 700-800 человек. В каждом из трех классов имеются не только ресторан, бар и кафе, плавательные бассейны и кинозалы, но и дансинги, роскошная отделка которых увеличивается пропорционально стоимости проездных билетов. В первых двух классах существуют еще и концертные залы.
Целые улицы с ярко освещенными витринами магазинов. Стучат линотипные и типографские машины, печатая ежедневную газету. Мычат быки - рестораны должны иметь в пути свежее мясо. Взлетают теннисные и футбольные мячи, на верхней палубе есть даже самолет для желающих попасть в Нью-Йорк на 24 часа раньше. Каждую ночь все часы на пароходе переводятся на один час.
На стимере "Париж" Дункан и Есенин прибыли в Америку, но сразу сойти им на берег не удалось. Иммиграционный инспектор заявил, что ночь они должны провести в своей каюте, а утром проследовать на Эллис-Айланд ("Остров слез") для проверки. Инспектор воздержался от каких бы то ни было объяснений и лишь случайно проговорился, что действует согласно инструкции из Вашингтона.

Сергей Есенин. (Нью-Йорк, 1922)
Дункан в белой фетровой шляпе, в красных, "русских", сапожках и в длинном плаще стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров.
Есенин, заготовивший целую речь, молчал. А сказать он хотел (как сам потом рассказывал) о своей вере в то, что "душа России и душа Америки в состоянии понять одна другую и что они приехали рассказать о великих русских идеях и работать для сближения двух великих стран".
Американские журналисты остались верны себе: они наперебой задавали Дункан нелепые вопросы об ее танцах, о Москве, об Есенине, о визах, об отношении к американцам, и даже - "как она выглядит, когда танцует". На этот вопрос Айседора резонно ответила, что она не может этого сказать, так как никогда не видела себя танцующей.
Обращаясь через головы репортеров к американцам, она сказала:
- Они задержали нас только потому, что мы приехали из Москвы, хотя американский консул в Париже, завизировавший наши паспорта, заверил нас, что никаких препятствий к въезду теперь не будет!
В то время, как Есенин и Дункан сидели в своей каюте с перспективой очутиться утром на Эллис-Айланде, "Таймс" писала:
"Айседора Дункан задержана на Эллис-Айланде! Боги могут смеяться! Айседора Дункан, которой мир обязан созданием нового искусства танца, - зачислена в опаснейшие иммигранты!"
Утром стало известно, что от департамента труда, которому подчинялось иммиграционное бюро, не исходило никаких приказаний. Дункан и Есенину заявили, что приказ был дан министерством юстиции - "ввиду долгого пребывания Айседоры Дункан в Советской России". Подозревали, что она, "оказывая дружескую услугу Советскому правительству, привезла в Америку какие-то документы".
Про Эллис-Айланд Есенин писал после приезда из США в статье "Железный Миргород" в "Известиях": "...когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напоминали мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.
- Смотри,- сказал я спутнику, - это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, - и мы спасены.
Взяли с меня расписку не петь "Интернационал", как это я сделал в Берлине...".

Айседора Дункан. Скульптура
После двухчасового допроса Есенин и Дункан были освобождены. Айседора заявила ожидавшим ее репортерам:
- Мне никогда не приходило в голову, что люди могут задавать такие невероятные вопросы!
Друзья Айседоры устроили дружескую встречу и банкет в отеле, где они поселились. Дункан была счастлива, с жаром делилась впечатлениями о Советской России и ни о чем другом не желала говорить. Ей не терпелось рассказать об этом всей Америке, как она выразилась. Репортеры вынуждены были записывать и фразу, которой она заканчивала каждое свое интервью:
- Коммунизм является единственным выходом для мира!
Три спектакля Дункан в "Карнеги-холл" прошли с большим успехом и благополучно заканчивались, несмотря на выступления Айседоры с речами о Советской России.
Но последствия сказались очень скоро. Начавшееся в Филадельфии турне приостановилось: мэр Индианополя испугался "большевистских речей" Айседоры и запретил ей въезд в город.
Юрок дал мэру от имени Дункан обязательство, что она не будет выступать с речами, но на первом же спектакле Айседора произнесла, как выразились местные газеты, "одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России".
Наутро репортеры сообщили Дункан, что ей навсегда запрещен въезд в Индианополь. И Дункан и Есенин равнодушно выслушали эту "сенсационную" новость.
Но Юрок нервничал и предупредил Айседору, что первый, самый незначительный инцидент приведет к отмене турне.
В Милуоки он не допустил к ней корреспондентов и объявил, что Дункан никого не принимает, но на банкете, где чествовали ее и Есенина, она опять высказалась всласть.
В Бостоне ее выступление вызвало скандал. В партер была введена конная полиция. Вдобавок ко всему, Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России.
Турне прекратилось. Но в Нью-Йорке Дункан продолжала выступать, и, как она и Есенин мне рассказывали, 12 раз после ее спектаклей, неизменно заканчивающихся "Интернационалом", "зеленая карета" отвозила Айседору в полицию. Правда, дело ограничивалось взятием с нее подписки о невыезде.
Но газеты взбесились, набрасываясь и на Дункан и на Есенина. Они приписывали Есенину дебоши, которых не было, раздували в скандал каждое резкое высказывание Есенина, его недовольство американскими нравами и чувство разочарования, какое он испытывал в этой стране.
Есенин нервничал.
Была и еще одна причина "взрывчатого" состояния Есенина (об этом мне рассказывала Дункан): он считал, что Америка не приняла и не оценила его как поэта.
Если бы сейчас он был жив! И поехал бы в Америку... Он увидал бы, какой прием был бы теперь ему оказан, насколько там его теперь знают как поэта! А тогда сенсация была лишь в том, что мировая знаменитость Айседора Дункан приехала из "большевистской Москвы", да еще в сопровождении молодого известного советского поэта, ставшего ее мужем.
В последующие годы вести об Есенине прорывались туда из удушливого тумана легенд и вздорных выдумок, окружавшего Есенина, развеять который удалось лишь значительно позже. Недавно на одном из кинофестивалей в Москве демонстрировался английский широкоэкранный цветной фильм "Айседора" с кинозвездой Ванессой Редгрейв в роли Дункан.
Несмотря на старания режиссера втиснуть актрису в рамки легковесного и фантастического сценария, ее художественное чутье позволило ей в большой мере донести до зрителей образ Айседоры, добиваясь подчас и внешнего сходства. Я получил от Ванессы Редгрейв фотографии и письмо, в котором она пишет, что, к сожалению, лишь после съемок она смогла прочитать мою большую книгу "Айседора Дункан. Годы в России", изданную тогда через АПН в Лондоне и в Нью-Йорке на английском языке (но ей перевели отрывки из первого издания "Встреч с Есениным").
Однако образ Есенина, одного из величайших лириков современья, искажен невероятно. Неужели создатели фильма не могли найти актера, хотя бы внешне похожего на Есенина, прекрасное лицо которого с его обаянием, детской улыбкой и синевой глаз любимо и знакомо сотням миллионов почитателей его поэзии.
Самым высшим наказанием для авторов фильма за такую дискредитацию было то, что у советских зрителей подобное искажение образа поэта вызывало не взрыв возмущения, а лишь веселый смех всего зрительного зала.
Советское посольство в Лондоне прислало в АПН свыше пятидесяти рецензий на книгу "Айседора Дункан. Годы в России" из газет и журналов Англии, Америки, Австралии, Новой Зеландии, из Голландии, Ирландии и Шотландии и даже из Африки - из Замбии и Танзании. Из этих рецензий видно, что теперь многим читателям за границей стал известен и понятен настоящий Есенин.
Речи Айседоры, газетный шум привели к тому, что Дункан была лишена американского гражданства - "за красную пропаганду". Ей и Есенину было предложено покинуть Соединенные Штаты.
Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:
- Если бы я приехала в эту страну как большой финансист за займом, мне был бы оказан великолепный прием, но так как я приехала как признанная артистка, меня направили на "Остров слез" в качестве опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.
Эти ее слова были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки.
А Есенин писал в "Известиях":
"...Сила железобетона, громада зданий стиснули мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенные гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурнее страны, чем Америка.
- Слушайте,- говорил мне один американец, - я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил всю Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новее и лучше.
От таких слов смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю!.."
13 февраля одна из вечерних парижских газет напечатала заметку:
"Сегодня "Марди-Гра"* была расстроена по двум причинам: первая - шел дождь, а вторая - исчезновение Айседоры Дункан. Ее поклонники надеялись, что ее приезд окажется светлым серебряным лучом в этом проклятии дождя, который на два дня окутал столицу Франции. Однако после своей высадки с "Джорджа Вашингтона" в Шербурге она укрылась где-то отшельником во Франции..."
* ("Марди-Гра" - "жирный вторник", масленица (франц.).)
Но Дункан и Есенин были уже в Париже.
В Париже Есенин много работал над сборником "Исповедь хулигана" (он вышел в переводе Ф. Элленсона и М. Милославской) и даже занимался английским.
Но его уже давно тянуло на Родину.
В Париже Есенин писал про "низенький" "родительский дом":
Я любил этот дом деревянный, В бревнах теплилась грозная морщь, Наша печь как-то дико и странно Завывала в дождливую ночь.
И еще
Только ближе к родимому краю Мне б хотелось теперь повернуть.
А вскоре Айседора почувствовала себя больной.
Вызванная телеграммой из Лондона, Дести перевезла ее в отель "Резервуар" в Версале. Нервное напряжение во время турне по Америке, возмущение назойливостью и беспардонностью журналистов, раздувающих и раскрашивающих каждый шаг Есенина, каждый инцидент, связанный с его именем и именем Айседоры,- все это сказалось в Париже.
Айседора, окончательно разболевшаяся, решила послать Жанну сопровождать Есенина до Берлина, где у него оставались друзья и где было советское полпредство, которого во Франции еще не было. Все свои вещи она отправила с ним, надеясь выехать в Берлин, как только поправится, но температура все подымалась. Айседора совсем не могла спать... Ведь Есенин вынужденно покинул Францию.
А из Берлина сыпались телеграммы от Есенина. Наконец пришла такая:
"Isadora browning darling Sergei lubisch moja darling scurry scurry"*.
* (Изадора браунинг дарлинг Сергей любишь моя дарлинг скурри скурри".)
Никто не понял бы эту телеграмму, текст которой приняли на берлинском почтамте, очевидно, за частный шифр.
Но Айседора быстро расшифровала одной ей понятный "код": "Изадора! Браунинг убьет твоего дарлинг* Сергея. Если любишь меня, моя дарлинг, приезжай скорей, скорей".
* (Дорогого (англ.).)
Заложив за 60 тысяч франков три принадлежащие ей картины Эжена Каррьера, ценность которых была во много раз выше, она выехала в Берлин.
Внезапный отъезд Есенина, разумеется, стал лакомой пищей для парижских газет, и потому последнее время Айседора категорически отказывалась принимать корреспондентов. Накануне назначенного отъезда она, поднимаясь со своим другом Мерфи в лифте к себе в номер, заметила притаившегося в углу кабины корреспондента. Продолжая разговаривать с Мерфи, она назвала его Сергеем, сделав знак Мерфи, чтобы тог принял участие в розыгрыше. Корреспондент навострил уши.
- Мисс Дункан,- обратился он к Дункан, понимающе и доверительно улыбаясь,- вы не откажетесь теперь признать, что Есенин все еще в Париже?
- Нет, нет! - с деланным испугом стала отрицать Айседора.
Корреспондент настаивал.
Айседора умолила журналиста зайти к ней переговорить и затолкнула Мерфи в ванную, шепнув ему, чтобы он изобразил какой-нибудь громоподобный шум.
Убеждая корреспондента в том, насколько ужасным оказалось бы появление в печати сообщения о пребывании Есенина в Париже, она с опаской поглядывала на ванную. Айседора цепко держала корреспондента за руку, когда грянул гром из ванной, но тот, клятвенно пообещав не рассказывать о происшедшем ни слова, вырвался и в страхе выбежал из номера.
- Я отомстила всем им за все их нелепые писания обо мне и Есенине! - кричала Айседора, задыхаясь от смеха.
Наутро корреспондент упивался сенсационным разоблачением, но через пару часов сел в лужу.
Путь из Парижа в Берлин не маленький, а тем более на машине. К тому же в автомобильных поездках Айседору Дункан как будто бы преследовал какой-то рок, они постоянно сопровождались авариями.
Она попала в автомобильную катастрофу между Псковом и Ленинградом; под Батуми мы чуть не свалились в пропасть; под Москвой застряли в лесу и т. д.
На этот раз машина довезла Айседору только до Страсбурга и благополучно сломалась. Следующая машина проехала еще меньше и стала. Третья машина на каждом шагу капризничала и, кроме того, была без фар. А дело было уже к вечеру.
Но Дункан все-таки нашла попутчика. Он мчался, как сумасшедший, а Дункан, любившая быструю езду, всю дорогу понукала его к еще большей скорости. Автомобилист, исполняя ее желание, летел сломя голову, сшиб барьер, поставленный посреди дороги, а затем врезался в кучу камней и, разнеся ее, катил как ни в чем не бывало дальше, глядя больше на Айседору, чем на летящий навстречу асфальт.
Наконец через два дня в 10 часов вечера машина подкатила к берлинскому "Адлон-отелю", пункту встречи с Есениным...
Едва машина остановилась - Есенин прыгнул через голову автомобилиста прямо в объятия Айседоры. Собралась толпа, но Айседора и Есенин ничего и никого не замечали.
В Берлине Айседора получила мою телеграмму. Я телеграфировал, чтобы она выезжала в Москву, Айседора была нам нужна: с помощью Николая Ильича Подвойского я организовал на одном из московских стадионов занятия с 600 детьми рабочих двух московских районов. Об этих занятиях "Правда" писала: "Дети школы Дункан, отказавшись от летнего отдыха ради 600 детей Замоскворецкого и Хамовнического районов, вели с ними ежедневные занятия на Спорт-Арене Красного Стадиона.
Занятия эти дали блестящие результаты: дети, поступившие болезненными, хилыми и робкими, быстро начинали крепнуть, смелеть, буквально перерождаться".
Дункан решила ехать, но ей зачем-то понадобилось вернуться в Париж.
Ведь знала, что у Есенина визы нет, что въезд во Францию ему невозможен, да еще прицепился к ним какой-то длинный русский поэт в красной рубахе, с всклокоченными волосами и... с балалайкой. Но она провезла их. Правда, Есенин по дороге нечаянно раздавил в машине эту балалайку, но в Париж они прибыли.
Здесь снова начались неприятности. Ночной портье принимал никому не известных супругов Есениных, а утром управляющий, разобравшись, что Есенины - это "разрекламированные" газетами Есенины-Дункан, спешил сообщить Айседоре и Есенину, что занятые ими ночью комнаты сданы с 2 часов другим лицам.
Есенин был очень спокоен, насмешлив и так же, как Айседора, бессилен, памятуя о возможном вмешательстве полиции в случае справедливых возражений.
Для выезда в Москву нужны были деньги.
Айседора могла получить их у ростовщиков под заложенные ею картины Эжена Каррьера. Но ростовщик прятался от нее. Тогда она отправилась к владельцу художественного магазина, большому поклоннику ее искусства, и рассказала ему о заложенных картинах Каррьера. Тот купил их у Дункан по настоящей стоимости. Продана была также вся мебель из дома Айседоры на Rue de la Pompe, 103. (Когда я через несколько месяцев приехал в Париж, я нашел дом совершенно пустым.)
- Что мы будет сегодня есть? - весело спрашивала Айседора.- Эту софу или этот книжный шкаф?
- Я решила,- говорила мне потом Айседора в Москве,- уйти от всей этой сумбурной жизни и спрятаться с Есениным в мой маленький домик со студией, где я могла бы отдохнуть и приготовиться к большой работе в Москве.
Задолго до их отъезда в парижской газете "Эклер" появилась клеветническая статья писателя-эмигранта Мережковского об Есенине и Дункан. Еще до этого Айседора писала (в "Эклере", в "Нувель ревю" и в "Нью-Йорк геральд"):
"...Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасен для того, чтобы и дальше творить Красоту..."
Отвечая Мережковскому, который в своей статье назвал Есенина "пьяным мужиком" и обвинял Дункан в том, что она "продалась большевикам", Айседора писала: "...Во время войны я танцевала "Марсельезу", потому что считала, что эта дорога ведет к свободе. Теперь я танцую "Интернационал", потому что чувствую, что это гимн будущего человечества. Есенин самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь - все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господин Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями.
Несмотря на это, я желаю господину Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных перчатках..."
Сделав все свои дела, наутро они должны были выезжать в Москву, а вечером пошли поужинать в ресторан "Шехерезада"...
Через несколько месяцев после возвращения Дункан и Есенина в Москву я проехал почти по всему их европейскому маршруту. Побывал и в этом парижском ресторане. Хозяева его французы, а весь обслуживающий персонал - русские. Все официанты - бывшие царские и белогвардейские офицеры.
Когда Есенин и Дункан заканчивали ужин и мирно сидели под большим торшером, официант наклонился к нему:
- Вот, господин Есенин... Я флигель-адъютант свиты его императорского величества, а теперь вот - прислуживаю вам.
Есенин не терпел этих гвардейских лакеев и в ответ ему сказал что-то дерзкое. Произошел скандал. Есенину угрожали неприятности.
Утром Айседора поехала к мэру Парижа, Есенин был реабилитирован, и в тот же день они выехали в Москву.
Мери Дести писала в своей книге: "Когда поезд, увозивший Айседору и Сергея в Москву, тронулся от платформы парижского вокзала, они стояли с бледными лицами, как две маленькие потерянные души..." Нет, не потерялись эти души. Хотя Айседоре оставалось всего четыре года прожить в этом мире, а Есенину и того меньше - всего два с половиной - и она создала за эти годы многое в своем искусстве, а для Есенина эти последние два с половиной года его жизни явились периодом невиданного взлета есенинской поэзии.
Самые вдохновенные его произведения написаны именно в этот период - более ста стихотворений, поэма "Анна Снегина" и другие.
Но сложная, противоречивая натура Есенина надломилась трагически. В своей так безжалостно короткой жизни он пришел к чудовищной развязке...
И ведь видел, понимал, какой шумный и радостный поток новой жизни несется ему навстречу, а все же написал горькие строки в своем предсмертном стихотворении.
Есенин был человеком необыкновенной впечатлительности. Все его ранило, возбуждало, все могло овладеть им сразу, целиком. Потому он был так беззащитен и перед красотой, и перед чувством, и перед друзьями. Когда он встретился с Дзержинским, Феликс Эдмундович сказал ему:
- Как это вы так живете?
- А как? - спросил Есенин.
- Незащищенным! - ответил Дзержинский.
Да, он жил беззащитным, незащищенным...
Все это обязывает каждого человека, желающего по-настоящему понять Есенина, не брать его слишком прямолинейно, в лоб, грубо объясняя его поступки и высказывания. Есенина можно понять только в его стихах, ибо слова поэта - суть его дела, как говорил Пушкин.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"