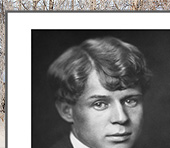


Правда - за органическим образом
Быт и искусство
(Отрывок из книги "Словесные орнаменты")
Сии строки я посвящаю своим собратьям по тому течению, которое исповедует Величию образа.
Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям.
Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ это уже все.
Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных впечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем, строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума.
Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе вое эти виды искусства только лишь как и необходимое ему оружие.
Искусство - это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении.
Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости.
Виды искусства, как я уже сказал, весьма многообразны. Прежде чем подойти к искусству слова, подойдем к самому несложному и поверхностному искусству, искусству одежды человека, перенесемся мыслями хотя бы к нашей скифской эпохе. Вспомним мавров, будитов и сарматов.
Описывая скифов, Геродот прежде всего говорит об их обычаях и одежде. Скифы носят на шеях гривны, на руках браслеты, на голову надевают шлем, накрываются сшитыми из конских копыт плащами, которые служат им панцирями. Нижняя одежда состоит из шаровар и коротких саков. Всматриваясь в это коротенькое описание, вы сразу же представляете себе всю причинность обряда, и перед вами невольно встает это буйное, и статное, и воинственное племя. Вы уже сразу чувствуете, что гривна ему нужна для того, чтоб защитить от меча врага шею, шлемом они защищают череп, браслетом - кисть руки, плащ же охраняет его бока и спину.
Так же как и в одежде, человек выявил себя своими требованиями и в музыке. Мы знаем, что мелодии родились так же, как щит и оружие.
Действие музыки главным образом отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить и усмирять ее. Эту тайну знали как древние заклинатели змей, играющие на флейтах, так бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя в рожок коровам. Недаром монголы говорят, что под скрипку можно заставить плакать верблюда. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей. Все это известно давно, и на этом давно уже построены определения песен героических, эпических, надгробных и свадебных.
Подходя к слову, мы также видим, что значение его одинаково с предыдущими видами требований человека.
Слова - это образы всей - предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. Даже то искусство одежды, музыки и слова, которое совсем бесполезно, все-таки есть прямой продукт бытовых движений. Оно - попутчик быта.
Что такое теперешние ожерелья, перстни и браслеты, как не сколок с воинственных лат наших далеких предков? Что такое чувствительные романсы, вгоняющие в половой жар, в грусть девушек и юношей, как не действие над змеей и коровой? И что такое слова, как не синие трупики обстановочных предметов первобытного человека? Нет, быт и искусство неотделимы. Фигуры - это уже быт, а искусство есть самая яркая фигуральность.
Собратья мои не признают порядка и согласования в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом.
Жизнь образа огромна и разливчата. У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами. Сначала был образ словесный, который давал имена предметам, за ним идет образ заставочный, мифический, после мифического идет образ типический, или собирательный, за типическим идет образ корабельный, или образ двойного зрения, и, наконец, ангелический, или изобретательный, о которых нам отчасти пришлось говорить в нашей книге "Ключи Марии".
Пример словесного образа таков. Сначала берем образ без слова. Перед нами неотчеканные массы звуков пчелы:
У-У-У-У. бу-бу-бу.
Перед сознанием человека встает действие, которое определяется звуком "бу"; предмет пойман в определение и уже неподвижен, определение это есть образ слова.
Образ заставочный, или мифический, есть уподобление одного предмета или явления другому:
Ветви-руки, сердце-мышь, солнце-лужа.
Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений человеческим бликам.
Отсюда Даждь-бог, дающий дождь, и ветреная Геба, что
Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.
На нем построены все божественные фигуры, а также именные клички героев у дикарей: "Пятнистый олень", "Красный ветер", "Сова", "Сычи", "Обкусанное солнце" и т. д.
Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних или внутренних фигур при человеке. Внешний образ: "нос, что перевоз". Внутренний образ:
Тверд, как камень, Блудлив, как ветер.
Корабельный образ, образ двойственного положения:
Взбрезжи полночь луны кувшин Зачерпнуть молока берез.
Он очень родствен заставочному с тою лишь разницей, что заставочный неподвижен. Этот же образ имеет вращение.
Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. Образ предметного ангелизма: ковер-самолет и аэроплан, перо жар-птицы и электричество, сани-самокаты и автомобиль. На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство незримой страны "Инония", чувство незримого и неизвестного прихода, как-то: "Гость чудесный".
Итак, подыскав определения текучести образов, уложив их в формы, для них присущие, мы увидим, что текучесть и вращение их имеет согласованность и законы, нарушение которых весьма заметно.
Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.
Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни.
Смею указать моим собратьям, что каждая линия в этом рисунке строго согласуется с законами общего. Климатический стиль нашей страны заставляет меня указать моим собратьям на то, насколько необходимы и непреложны эти законы. Собратья мои сами легли черточками в этот закон и вращаются так, как им предназначено. Что бы они ни говорили в противовес, сила останется за этим так же, как и за правдой календарного абриса в хозяйственном обиходе нашего русского простолюдина.
Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру.
Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом, временем и действием стихий. Все эти "Марьи зажги снега", "заиграй овражки", "Авдотьи подмочи порог" и "Федули сестреньки" построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны.
У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.
У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше ни меньше как ни на что не направленные выверты.
Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность.
(Из книги "Ключи Марии")
В нашем языке есть много слов, которые как "семь коров тощих пожрали семь коров тучных", они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда весьма длинное и сложное определение мысли. Например, слово "умение-" (умеет) запрягло в себе ум, имеет и несколько слов, опущенных в воздух, выражающих свое отношение к понятию в очаге этого слова. Этим особенно блещут в нашей грамматике глагольные положения, которым посвящено целое правило спряжения, вытекшее из понятия "запрягать", то есть надевать сбрую слов какой-нибудь мысли на одно слово, которое может служить так же, как лошадь в упряжи, духу, отправляющемуся в путешествие по стране представления. На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии "запрягать" построена почти и вся наша образность, слагая два противоположных явления через сходственность в движении, она родила метафору:
Луна - заяц, Звезды - заячьи следы.
Происхождение этого главным образом зависит от того, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания. Они перепробовали почти все двери, ведущие к ней, и оставили нам много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы бережно храним в музеях нашей словесной памяти. Разбираясь в узорах нашей мифологической эпики, мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей. В "Голубиной книге" так и сказано:
У нас помыслы от облак божиих... Дух от ветра... Глаза от солнца... Кровь от черного моря... Кости от камней... Тело от сырой земли...
Живя, двигаясь и волнуясь, человек древней эпохи не мог не задать себе вопроса, откуда он, что есть солнце и вообще что есть обстающая его жизнь? Ища ответа во всем, он как бы искал своего внутреннего примирения с собой и миром. И, разматывая клубок движений на земле, находя имя всякому предмету и положению, научившись защищать себя от всякого наступательного явления, он решился теми же средствами примирить себя с непокорностью стихий и безответностью пространства. Примирение это состояло в том, что кругом он сделал, так
сказать, доступную своему пониманию расстановку. Солнце, например, уподобилось колесу, тельцу и множеству других положений, облака взрычали, как волки, и т. д. При такой расстановке он ясно и отчетливо определял всякое положение в движении наверху.
В наших северных губерниях про ненастье до сих пор говорят:
Волцы задрали солнечно.
Сие заставление воздушного мира земною предметностью существовало еще несколько тысяч лет до нас и в Египте. Эдда построила мир из отдельных частей тела убитого Имира. Индия в Ведах через браман утверждает то же самое, что и Даниил Заточник: "Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече секерою сок и кровь, иже память воды". Как младшее племя в развитии духовных ценностей, мы можем показаться неопытному глазу талантливыми отобразителями этих пройденных до нас дорог. Но это будет просто слепотой неопытного глаза.
Прежде всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит в чреве своем образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит и чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тожественности, невозможно почти совсем.
Самостоятельность линий может быть лишь только в устремлении духа, и чем каждое племя резче отделялось друг от друга бытовым положением, тем резче вырисовывались их особенности. Это ясно подчеркнул наш бытовой орнамент и романский стиль железных орлов, крылья которых победно были распростерты на запад и подчеркивали устремление немцев к мечте о победе над всей бегущей перед ними Европой. Устремление не одинаково, в зависимости от этого, конечно, не одинаковы и средства. Вавилонянам через то, что на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце... нужна была башня. Русскому же уму через то, что Перун и Даждь-бог пели стрелами Стри-бога о вселенском дубе, нужен был всего лишь с запрокинутой головой в небо конек на кровле. Но то, что средства земли принадлежат всем, так же ясно, как всем равно греет солнце, дует ветер и ворожит луна.
Вязь поэтических украшений подвластна всем. Если Гермес Трисмигист говорил: "Что вверху, то внизу, что внизу, то вверху. Звезды на небе и звезды на земле"; если Гомер мог сказать о слове, что оно "как птица, вылетает из-за городьбы зубов", то и наш Боян не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых стае лебедей, не мог он и себя не опрокинуть так же, как Трисмигист, в небо, где мысль, как древо, а сам он, "Бояне вещий Велесов внуче", соловьем скачет по ветвям этого древа мысли, ибо то и другое рождается в одних яслях явления музыки и творческой картины по законам самой природы
Древние певцы, трубадуры, менестрели, сказители и баяны в звуках своих часто старались передавать по тем же законам заставочной образности пение птиц, и недаром народ наш заморского музыканта назвал в песнях своих Соловьем Будимировичем. Вглядитесь в слова Гомера, ведь он до ясности подчеркивает в себе приобретенное мастерство от пернатых царевичей звуков. Если слово - птица, значит, звук его есть клекот и пение этой птицы, если зубы - городьба, то жилы уж наверное есть уподобление ветвям опущенного подсознательно древа, на которых эта птица вьет себе гнездо. Здесь все оправдано, здесь нет ни единой лишней черты, о которую воспринимающая такое построение мысль спотыкалась бы, как об осеннюю кочку. Здесь мы видим, что образ рождается через слагаемость. Слагаемость рождает нам лицо звука, лицо движения пространства и лицо движения земного. Через строго высчитанную сумму образов, "соловьем скакаше по древу мысленну", наш Боян рассказывает, так же как и Гомер, целую эпопею о своем отношении к творческому слову. Мы видим, что у него внутри есть целая наука как в отношении к себе, так и в отношении к миру. Сам он может взлететь соколом под облаки, в море сплеснуть щукою, в поле проскакать оленем, но мир для него есть вечное, неколеблемое древо, на ветвях которого растут плоды дум и образов.
Обоготворение сил природы, выписанное лицо ветра, именем Стри-бога или Борея в наших мифологиях земного шара есть не что иное, как творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн.
Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида - душа, плоть и разум.
Образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа корабельным и третий образ от разума ангелическим.
Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление одного предмета другому или крещение воздуха именами близких нам предметов.
Солнце - колесо, телец, заяц, белка.
Тучи - ели, доски, корабли, стадо овец.
Звезды - гвозди, зерна, караси, ласточки.
Ветер - олень, Сивка Бурка, метельщик.
Дождик - стрелы, посев, бисер, нитки.
Радуга - лук, ворота, верея, дуга и т. д.
Корабельный образ есть уловление в каком-либо предмете, явлении или существе струения, где заставочный образ плывет, как ладья по воде. Давид, например, говорит, что человек словами течет, как дождь, язык во рту для него есть ключ от души, которая равняется храму вселенной. Мысли для него струны, из звуков которых он слагает песню господу. Соломон, глядя в лицо своей красивой Суламифи, прекрасно восклицает, что зубы ее "как стадо остриженных коз, бегущих с гор Галаада".
Наш Боян поет нам, что "на Немизе снопы стелют головами, молотят цепы харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брези не бологомь бяхуть посеяни,- посеяни костьми русьскых сынов".
Ангелический образ есть сотворение или пробитие из данной заставки и корабельного образа какого-нибудь окна, где струение являет из лика один или несколько новых ликов, где зубы Суламифь без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими живыми, бежавшими с гор Галаада козами. На этом образе построены почти все мифы от дней египетского быка в небе вплоть до нашей языческой религии, где ветры, стрибожьи внуци, "веют с моря стрелами", он пронзает устремление почти всех народов в их лучших произведениях, как "Илиада", Эдда, Калевала, "Слово о полку Игореве", Веды, Библия и др. В чисто индивидуалистическом творчестве Эдгар По построил на нем свое "Эльдорадо", Лонгфелло "Песнь о Гайавате", Гебель свой "Ночной разговор", Уланд свой "Пир в небесной стороне", Шекспир нутро "Гамлета", ведьм и Бирнамский лес в "Макбете". Воздухом его дышит наш русский "Стих о Голубиной книге", "Златая цепь", "Слово о Данииле Заточнике" и множество других произведений, которые выпукло светят на протяжении долгого ряда веков.
Наше современное поколение не имеет представления об этих образах. В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение. То, что было выжато и изъедено вплоть до корок рядом предыдущих столетий, теперь собирается по кусочкам, как открытие. Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников; то, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни, он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и "изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие", ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона.
Создать мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи - тайна для нас не новая. Она характеризует разум, сделавший это лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки; это есть сочинительство загадок с ответом в середине самой же загадки. Но в древней Руси и по сию пору в народе эта область творчества гораздо экспрессивнее. Там о месяце говорят:
Сивка море перескочил, Да копыт не замочил. Лысый мерин через синее Прясло глядит.
Роса там определяется таким словесным узором, как:
Заря-заряница, Красная девица, В церковь ходила, Ключи обронила, Месяц видел, Солнце скрало.
Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определеный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своем. Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди.
Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева:
Тысячу лет и Лембэй пущей правит, Осеньщину дань собирая с тварей: С зайца шерсть, буланый пух с лещуги, А с осины пригоршню алтынов.
Этот образ - построен на заставках стертого революцией быта; в том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновленной души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать, что "убийца святей потира". Это старое инквизиционное православие которое, посадив св. Георгия на коня, пронзило копьем, вместо змия, самого Христа.
■ Я послал Вам письмо, книги, еще письмо, ждал от Вас хоть какого-нибудь ответа и не получил его, и мне кажется, что Вы, по-видимому, обиделись* на что-то, уж не за Клюева ли и мое мнение о нем?** Не за Блока ли?
* (Далее зачеркнуто: за Клюева, за те несколько нетеплых слов моего мнения.)
** (Далее зачеркнуто: как о поэте небольшого.)
Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал, по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма*, но все-таки они**, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовке всех проходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке.
* (Далее зачеркнуто: и оболгал русских мужиков в какой-то не присущей им любви к женщине, к Китежу, к мистически-религиозному тяготению (в последние годы, конечно, по Штейнеру и по Андрею Белому) и показал любовь к родине с какого-то не присущего нам шовинизма. "Деду Киеву пошила алый краковский жупан" (жупан - знак вольности).)
** (Далее зачеркнуто: кое-что.)
Блок - поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка. У Клюева они очень мелкие ("черница темь сядет с пяльцами под окошко шить златны воздухи", "Зой ку-ку загозье гомон с гремью шыргунцами вешает на сучья", "туча ель, а солнце белка с раззолоченным хвостом" и т. д.). А Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что "слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем".
Дорогой Разумник Васильевич, 500, 600 корней хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов.
Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов.
Ведь стихи есть определенный вид словесной формы, где при лирическом, эпическом или изобретательном выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, то есть слова входят в одну и ту же произносительную орбиту или более или менее близкую. Но такие рифмы, какими переполнено все наше творчество:
Достать - стать Пути - идти Голубица - скрыться Чайница - молчальница
и т. д. и т. д.
Ведь это же дикари только могут делать такие штуки. Положим, язык наш звучащих имеет всего 29 букв, а если разделить их на однородные типы, то и того меньше будет, но все же это не годится. Нужно, если не буквенно, то хоть по смысловому понятию, уметь отделять слова от одинаковости их значения.
Поэтическое ухо должно быть тем магнитом, которое соединяет в звуковой одноудар по звучанию слова разных образных смыслов, только тогда это и имеет значение. Но ведь "пошла - нашла", "ножка - дорожка", "снится - синится" - это не рифмы. Это грубейшая неграмотность, по которой сами же поэты не рифмуют "улетела - отлетела". Глагол с глаголом нельзя рифмовать уже по одному тому, что все глагольные окончания есть вид одинаковости словесного действия. Но ведь и все почти существительные в языке есть глаголы. Что такое синица и откуда это слово взялось, как не от глагола синеется, голубица - голубеется и т. д.
Я не хочу этим развивать или доказывать перед Вами мою теорию поэтических напечатлений. Нет! Я единственно Вам хочу указать на то, что я на поэта, помимо его внутренних импульсов, имею особый взгляд, по которому отказался от всяких четких рифм и рифмую теперь слова только обрывочно, коряво, легкокасательно, но разносмысленно, вроде почва - ворочается, куда - дал и т. д. Так написан был отчасти "Октоих" и полностью "Кобыльи корабли".
Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения:
"Головы моей желтый лист" "Солнце мерзнет как лужа" -
были образы двойного чувствования:
"Мария зажги снега" и "заиграй овражки"
"Авдотья подмочи порог"
Это образы календарного стиля, которые создал наш великоросс из той двойной жизни, когда он переживал свои дни двояко, церковно и бытом.
Мария - это церковный день святой Марии, а "зажги снега" и "заиграй овражки"- бытовой день, день таянья снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие в России. Это близко только Андрею Белому. Посмотрите, что пишет об этом Евгений Замятин в своей воробьиной скороговорке "Я боюсь" № 1 "Дома искусств".
Вероятно, по внушению Алексея Михайловича он вместе с носом Чуковского, который ходит, заложив ноздри в карман, хвалит там Маяковского, лишенного всяческого чутья слова. У него ведь почти ни одной нет рифмы с русским лицом, это - помесь негра с малоросской (гипербола- теперь была, лилась струя - Австрия).
Передайте Евгению Ивановичу, что он не поэта, а "Барыбу увидеть изволили-с".
Думаю, что во всем виноват тут Ремизов. О, он хитрая бестия, этот Ремизов! Недаром у него, как у алжирского бея, под носом Вячеслав Шишка!
Простите еще раз, Разумник Васильевич, если как-нибудь приношу Вам огорчение. Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким. Я его хорошо изучил, обломал и потому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей "имажинистами". Помните, я Вам кой-что об этом говорил еще на Галерной 40? И даже в поэме "Сельский часослов" назвал это мое брожение "Израмистил". Тогда мне казалось, что это мистическое изографство. Теперь я просто говорю, что это эпоха двойного зрения, оправданная двойным слухом моих отцов, создавших "Слово о полку Игореве" и такие строчки, как:
На оболони телегы скрыпать, Рцы лебеди распужени.
Дело не в имажинизме, которое притянула к нам З. Венгерова в сборнике "Стрелец" 1915 г., а мы взяли да немного его изменили. Дело в моем осознании, преображении мира посредством этих образов. Вспомните:
Как яйцо нам сбросит слово С проклевавшимся птенцом...
Тогда это была тоска "Господи отелись", желание той зари, которая задирает хвост коровой, а теперь...
■ - Кому что как кажется! [говорил Есенин]. Мне, например, месяц кажется барашком.
В Москве 18 года встретился с Мариенгофом, Шершеневичем и Ивневым.
Назревавшая потребность в проведении в жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубликования манифеста имажинистов. Мы были зачинателями новой полосы в эре искусства, и нам пришлось долго воевать.
Во время нашей войны мы переименовывали улицы в свои имена и раскрасили Страстной монастырь в слова своих стихов.
■ Есенин с видом молодого пророка горячо и вдохновенно доказывал мне незыблемость и вечность теоретических основ имажинизма.
- Ты понимаешь, какая великая вещь и-ма-жи-низм! Слова стерлись, как старые монеты, они потеряли свою первородную поэтическую силу. Создавать новые слова мы не можем. Словотворчество и заумный язык - это чепуха. Но мы нашли способ оживить мертвые слова, заключая их в яркие поэтические образы. Это создали мы, имажинисты. Мы изобретатели нового. Если ты не пойдешь с нами - крышка, деваться некуда.
■ - Ну к чему они [символисты и акмеисты] мне? Я этот "символизм" еще в школе мальчишкой постиг [говорил Есенин]. И знаешь откуда? Из Библии. Школу я кончал церковно- приходскую, и нас там этой Библией как кашей кормили. И какая прекрасная книжица, если ее глазами поэта прочесть! Мне нравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать -- и я все ; думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой "символизм". Он у меня своим горбом нажит.
■ ...В самый разгар дружбы с ними [имажинистами] Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. "Я же,- добавлял Есенин,- в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение".
■ Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его [Есенина] о причине ее, он ответил: "Как ты не понимаешь, что мне нужна тень".
■ Он [Есенин, полемизируя с "ничевоками"] развивает следующую мысль:
В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки.
Образ для него, как и для народа, конкретен.
Образ для него, как и для народа, утилитарен; утилитарен в особом, лучшем смысле этого слова. Образ для него - это гать, которую он прокладывает через болото. Без этой гати нет пути через болото.
■ Об образах Есенин говорил:
- Это все есть у народа. Мы тут только наследники народа... Это только надо найти, услышать, прочитать, осмыслить.
■ После первого чтения "Пугачева" в "Стойле Пагаса" присутствующим режиссерам, артистам и публике Есенин излагал свою точку зрения на театральное искусство...
Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.
Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.
Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему, как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.
Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.
И если режиссеры считают "Пугачева" не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить "Пугачева", перестраивается так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть.
■ В разговоре с Вадимом [Шершеневичем Есенин] был резок, когда дело касалось имажинизма: "Скажи мне, ну какой я имажинист? Какой?" Шершеневич доказывал, что поpa написать новый устав. Сергей Есенин замахал руками и горько улыбнулся. Было видно, что имажинизм ему надоел...
■ ...Многие думают [говорил Есенин], что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоятельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме. Но беда в том, что приятели мои слишком уверовали в имажинизм, а я никогда не забываю, что это только одна сторона дела, что это внешность. Гораздо важнее поэтическое мироощущение. Шершеневичу это до сих пор чуждо, и долго не было этого поэтического содержания у Мариенгофа. Одна только внешность имажинизма.
■ В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой...
Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:
- Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых. Они отстали. Это у нас было давно.
■ - Скажите, Сергей Александрович, вот вы были в Америке. Как выглядят небоскребы? Как выглядят улицы в Нью-Йорке? Правда ли, что там существуют специальные машины, которые асфальт моют щетками?
Есенин не посмотрел, а словно проткнул меня глазами и сказал подозрительно и чуть насмешливо:
- А почему это вас интересует?
Я сказал ему, что существует группа поэтов-конструктивистов. И самонадеянно начал объяснять значение техники для нашей страны, пытаясь связать логику технического строительства с законами поэзии.
Есенин слушал меня без всякого интереса, смотрел... по сторонам, а потом, обернувшись, сказал:
- Про конструктивистов не слыхал. Вы, вероятно, с Лефами заодно. Но техникой, Зелинский, вы увлекаетесь совершенно зря.
- Почему же зря?- изумился я.
- Ну, конечно, асфальтовые шоссе лучше наших деревенских дорог. Но поэзию вы бросьте. К поэзии белые воротнички и подтяжки отношения не имеют.
Есенин словно спустился откуда-то ко мне и заговорил уже всерьез.
- Наша Россия - вот это страна поэзии. Это ничего, что мы еще пока бедны. Американцы носят брюки на подтяжках, а мы поясом штаны подтягиваем. Зато нам бежать легче. Понятно? Затянемся потуже и бегом. Догоним. Нам бежать легче. А в Америке их техника человека съела. У них главное не техника, а доллар. Вот кто враг поэзии. Это вы запомните...
■ Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят" "слаба гайка", и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.
В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем...
■ Вскоре после приезда [из заграницы Есенин] читал "Москву кабацкую". Присутствовавший при чтении Я. Блюмкин начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил "Москву кабацкую" и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта.
■ Есенин рассказывает:
- Искусство в Америке никому не нужно. Настоящее искусство. Там нужно умереть душой и любовью к искусству. Там нужна Иза Кремер и ей подобные. Душа, которую у нас в России на пуды меряют, там не нужна. Душа в Америке - это неприятно, как расстегнутые брюки.
■ Если случайно заходил разговор об имажинизме, Сергей морщился. - Я никогда,- говорил он,- не подписывался под тем, что "содержание - слепая кишка искусства"! Никогда!.. Мало ли что мне приписывают!
■ - Писать для детей [говорил Есенин] - надо особый дар иметь...
■ Есенин умел слушать [чужие стихи] настороженно - как-то расцветал, когда стихи казались ему удачными; он просил автора их повторить и сам произносил понравившиеся строки. (У меня ему нравилось, например: "На зябких розах желтая солома...") Свежее дыхание он ощущал в высокой степени: "Стихи должны быть, как открытое окно!" Но мне приходилось слышать, как Есенин, увидев в печати сухие, казенные произведения, сопровождал свою резкую критику соленым словом в адрес того или иного редактора... Серость в стихах Есенину казалась оскорблением русской поэзии. Самой бранной кличкой в устах Есенина было слово "эпигон", безразлично - есенкнский или символистов.
■ - ... Я всем вам, друзья, по-товарищески советую [говорил Есенин]- посещайте брюсовский лицей, оканчивайте его, но в творчестве, в своих личных опытах оставайтесь поэтами самобытными. Учеба уводит часто от оригинальности и своего существа. Будьте сами собой, не теряйте органичности и не вдавайтесь в стилизации. Только при этих условиях выучка у Брюсова имеет смысл.
■ - Хорошие стихи Володя [Ричиотти] читал нынче [говорит Есенин]. А? Тебе - как? Понравились? Очень хорошие стихи! Видал, как он слово в слово вгоняет? Молодец!.. Одно забывает! Да не он один! Все они думают так: вот - рифма, вот размер, вот - образ и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого - мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь Пугачева? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть, вот тогда ты - мастер!
■ Сергей с охотой и в прекрасной манере читал стихи, написанные другими поэтами.
...Соловьи на кипарисах и над озером луна, Камень черный, камень белый, много выпил я вина... -
отчетливо выделяя слова этого стихотворения Гумилева, словно любуясь им, выговаривал он.
Блока почитал он как учителя своего - и об этом говорил не раз. Множество стихов Блока он знал наизусть и произносил их в своей особой манере, отчетливо и поэтически:
Гармоника, гармоника! Эй, пой, визжи и жги, Эй, желтенькие лютики. Весенние цветки!.. -
произнес он, делая ударение на рифме.
- Неправильная рифма, верно? Ассонанс? А ведь такого рода неправильные рифмы коренятся в самой природе нашего языка - здесь и бойкость и лихость, а?
Но некоторые стихотворения Блока он разбирал критически, обращая особенное внимание на отдельные эпитеты.
- Блок - интеллигент, это сказывается на самом его восприятии,- говорил он с горячностью.- Даже самая краска его образа как бы разведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками.
- Это и есть имажинизм?-спрашивал я.
- Ну, да,- говорил он недовольно.- То есть все это произошло совсем наоборот... Разве можно предположить, что я с детства стал имажинистом? Но меня всегда тянуло писать имен-
но такими чистыми, свежими красками, тянуло еще тогда, когда я во всем этом ничего не понимал.
И он тут же прочел - я услышал тогда впервые это маленькое стихотворение:
Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет.
- Это я написал еще до того, как приехал в Москву. Никакого имажинизма тогда не было, да и Хлебникова я не знал. А сколько лет мне было? Четырнадцать? Пятнадцать? Нет, не я примкнул к имажинистам, а они наросли на моих стихах. Александр Блок - это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического...
■ Во время разговора о стихах речь зашла о рифмах. Есенин заметил, что хороша та рифма, когда рифмующиеся слова по смыслу на первый взгляд далеки друг от друга.
- Хорошо дружить между собою "незнакомые" слова,- говорил он.
■ Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить.
Поэтому основанное в 1919 году течение имажинизм, с одной стороны - мной, а с другой - Шершеневичем, хоть и повернуло формально русскую поэзию по другому руслу восприятия, но зато не дало никому еще права претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово.
■ В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"