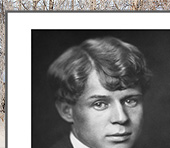


Современники
О Горьком он [Есенин] отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях-босяках. По его мнению, самый тип этот возможен был "лишь в городе, где нет простору человеческой воле". Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит все то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.
Из произведений Короленко Есенину пришлись по душе "За иконой" и "Река играет"... "Река играет" привела его в восторг. "Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике",- писал он. Короленко стал ему близок "как психолог души народа", "как народный богоискатель".
В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало - это "превосходство земледельческой работы над другими", которое проповедовал Толстой,- религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально.
Письмо А. М. Горькому
Дорогой Алексей Максимович!
Помню Вас с последнего раза в Берлине. Думал о Вас часто и много.
В словах и особенно письменных можно сказать лишь очень малое. Письма не искусство и не творчество.
Я все читал, что Вы присылали Воронскому.
Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого.
Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время.
И шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне.
Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову.
■ Читал он [Блок] спокойным голосом, выразительно... Есенин любовно поглядывал на Блока, иногда пытливо посматривал и на меня, желая узнать мое впечатление. Один раз он не выдержал и шепнул мне на ухо:
- Хорош Блок!
■ Из расспросов, на которые он [Есенин] отвечал охотно и просто, выяснилось... что он читал у себя на родине многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и прочесть им то, что привез. О Блоке, который принял его, кажется, со свойственной ему сдержанностью и немногословием, он сказал:
- А я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал "Стихи о Прекрасной Даме".
■ - С него [Блока] да с Сергея Митрофановича Городецкого [говорил Есенин] и началась моя литературная дорога.
■ Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй - Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба.
■ Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.
■ Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как вы, но только на своем рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли "Северные записки", "Русская мысль", "Ежемесячный журнал" и др. А в "Голосе жизни" есть обо мне статья Гиппиус под псевдонимом Роман Аренский, где упоминаетесь и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь "через быстру реченьку, через темненький лесок не доходит голосок". Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу "Радуницу". В "Красе" я тоже буду.
■ ...Есенин принялся мне читать стихотворение Клюева:
Шесток для кота, что амбар для попа, К нему не заглохнет кошачья тропа, Зола, как перина, лежит - почивай: Приснятся снетки, просяной каравай.
- Олонецкий знахарь хорошо знает деревню,- сказал Есенин.
■ У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: "Ей-богу, я пырну ножом Клюева!"
■ Уж очень мне понравилась, с прибавлением не клюевская "Песнь Солнценосца" и хвалебные оды ей с бездарной "Красной песней".
Штемпель Ваш "первый глубинный народный поэт", который Вы приложили к Клюеву из достижений его "Песнь Солнценосца", обязывает меня не появляться в третьих "Скифах". Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк.
Это я, если не такими, то похожими словами, уже говорил Вам когда-то при Арсении Авраамове.
Клюев, за исключением "Избяных песен", которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его "прекраснейшему" и "белый свет Сережа, с Китоврасом схожий".
То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.
"Я яровчатый стих"
И
"Приложитесь ко мне, братья"
противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтобы сдвинуть не только государя с Николая на овин, а...
Но об этом говорить не принято, и я оставлю это для "Лицезрения в печати", кажется, Андрей Белый ждет уже...
В моем посвящении Клюеву я назвал его средним братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в "Коньке-горбунке", да и во всех почти русских сказках -
"Так и сяк".
Поэтому я и сказал: "Он весь в резьбе молвы", - то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.
А я "сшибаю камнем месяц", и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.
Говорю Вам это не из ущемления "первенством" Солнценосца и моим "созвучно вторит", а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом...
И "Преображение" мое, посвященное Вам, поэтому будет напечатано в другом месте.
■ Особенно открещивался он [Есенин] от того периода, когда его имя называли обыкновенно вслед за Клюевым. Он возмущался теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в крестьянские поэты. Это все равно, говорил он, что зрелого Пушкина продолжать называть "певцом Руслана и Людмилы".
■ Он [Есенин] терпеть не мог, когда его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его.
■ Он [Есенин] второй день бродит из угла в угол и повторяет стихи [Ходасевича]:
Учитель мой - твой чудотворный гений И поприще - волшебный твой язык. И пред твоими слабыми сынами Еще порой гордиться я могу, Что сей язык, завещанный веками, Любовней и ревнивей берегу...
- А? Каково? Пред твоими слабыми сынами! Ведь это он про нас! Ей-богу, про нас! И про меня! Не пиши на диалекте, сукин сын! Пиши правильно! Если бы ты знал, до чего мне надоело быть крестьянским поэтом! Зачем? Я просто - поэт, и дело с концом! Верно?
■ Он [Клюев] с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он... слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ощупью вот теперь он пойдет?
Из письма Р. Иванову-Разумнику. Москва, 4 декабря 1920.
■ Преимущество [свое] перед Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: "Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтому творчество его становится бесплодным". Другой раз он высказал свою мысль так: "У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь".
■ Из современников любил [Есенин] Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева. Души не чаял в Клычкове и каждый раз обижал его. Несколько раз восторгался "Серебряным голубем" Белого.
- Знаешь, Белый замечательно понимает природу. Удивляться надо!
■ И Мне Есенин говорил, что в имажинизме он нашел воплощение того, о чем много думал раньше, но если принять во внимание, что своих друзей, Мариенгофа и Шершеневича, он считал поэтами, охватившими только внешность имажинизма, выходило, что истинный имажинист - он, и судить об имажинизме по Мариенгофу и Шершеневичу, как делала публика на основании их теоретических выступлений, нельзя...
Всегда дружески отзываясь о них, как о людях, Есенин строго относился к их творчеству, не находя у них самого, по его мнению, главного: поэтического мироощущения.
Но гораздо больше нападал он - и по другим основаниям -... на Блока и на Клюева. Он посмеивался над "вечной женственностью" Блока, находя в этом еще лишнее доказательство того, что Блок на три четверти немец и настоящего чутья России у него нет: нам, русским людям, такая немецкая выдумка совсем не нужна. Он говорил, что ему всегда не по душе воинствующий патриотизм Клюева, что это ничем не лучше нашей господствующей церкви, благословляющей убийства, что Клюев не нашел чего-то самого нужного, и творчество его после революции начало засыхать. Блок совсем перестал писать, Клюев не идет вперед, идет назад: и вот стихи он пишет теперь гораздо хуже, чем раньше писал.
"Я же,- говорил Есенин,- немало изменился, и вот в чем причина нашего расхождения".
■ - Блок,- говорил... [Есенин],- к которому приходил я и в Петербурге, когда начал свои выступления со стихами (в печати) для меня, для Есенина, был - и остался, покойный,- главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что есть на свете...
Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней с благоговением. Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся. Да, я не участвовал в этом вечере, и я сказал им, моим бывшим друзьям: "Стыдно!" Имажинизм был ими опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма...
■ ...Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии. Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду.
Я встормошил здесь всю публику, сделал для него что мог с пайком и послал 10 миллионов руб. Кроме этого, послал еще 2 миллиона Клычков и 10 - Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или "ризы души своей" боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к богу.
Чужда и смешна мне... сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит.
"Рим" его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. "Молитв молоко" и "сыр влюбленности"- да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими "бутербродами любви". Интересно только одно фигуральное сопоставление, но, увы,- как это по-клюевски старо!.. Ну, да это ведь попрек для него очень небольшой, как Клюева. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого - Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы еще лучше, чем "Избяные песни".
Из письма Р. Иванову-Разумнику. Москва, 6 марта 1922.
Вещь [поэма "Четвертый Рим"] мне не понравилась. Неуклюже и слащаво. Ну да ведь у каждого свой путь. От многих других стихов я в восторге.
■ ...Пишу очень мало. С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. Я очень его любил, часто старался его приблизить себе, но ему все казалось, что я отрезаю ему голову, так у нас ничего и не вышло, а сейчас он, вероятно, думает обо мне еще хуже.
А Клюев, дорогой мой,- бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силенки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой по виду, а внутри - черт.
Клычков же, наоборот, сама простота, чистота и мягкость, только чересчур уж от него пахнет физической нечистоплотностью. Я люблю его очень и ценю как поэта выше Орешина. И во многом он лучше и Клюева, но, конечно, не в целом...
Ты, по рассказам, мне очень нравишься, большой, говорят, неповоротливый и с смешными думами о мнимой болезненности. Стихи твои мне нравятся тоже, только говорят, ты правишь их по указаниям жен туркестанских инженеров.
За это, брат, знаешь, мативируют. И какой черт ты доверяешься вообще разным с...?
Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке. Разве ты настолько уж осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?
Потом брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежом и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет.
Посылаю тебе "Трерядницу", буду очень рад, если ты как-нибудь сообщишь о своем впечатлении.
■ - Они говорят,- я от Блока иду, от Клюева [замечает Есенин]. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне - мой учитель! Вот кто!
■ - ... Ты подумай только [говорит Есенин]: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его.
■ [Есенин]... начал говорить, какой он [Клюев], хороший, и вдруг, как-то смотря в себя: "Хороший, но... чужой! Ушел я от него. Нечем связаться. Не о чем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос".
В. Я. Брюсов
Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов.
Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха.
Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы.
Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове. Русский символизм кончился давно, но со смертью Брюсова он канул в Лету окончательно.
Много Брюсова ругали, много говорили о том, что он не поэт, а мастер. Глупые слова! Глупые суждения!
После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно. Брюсов был в искусстве новатором.
В то время когда в литературных вкусах было сплошное слюнтяйство, вплоть до горьких слез над Надсоном, он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:
О, закрой свои бледные ноги.
Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались.
Брюсов первый раздвинул рамки рифмы и первый культивировал ассонанс. Утрата тяжела еще более потому, что он всегда приветствовал все молодое и свежее в поэзии. В литературном институте его имени вырастали и растут такие поэты, как Наседкин, Иван Приблудный, Акульшин и др. Брюсов чутко относился ко всему талантливому. Сделав свое дело на поле поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди сражающихся течений в литературе. Он мудро знал, что смена поколений всегда ставит точку над юными, и потому, что он знал, он написал такие прекрасные строки о гуннах:
Но вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном.
Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позиции разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал.
Очень грустно, что на таком литературном безрыбьи уходят такие люди.
■ В 1924 году по поводу статьи ["В. Я. Брюсов"] я беседовал с Есениным, и мне запомнились некоторые его замечания:
"Все мы учились у Брюсова",- повторил Есенин и добавил, что он сам вечерами сидел над томиком этого поэта и строку за строкой разбирал структуру стиха...
Говоря о "затхлой жизни девятидесятников", Есенин разумел период перед революцией 1905 года, когда среди русской интеллигенции впервые появился нездоровый вкус к декаденщине.
"С Брюсовым символизм канул в Лету окончательно" - на этой мысли Есенин не настаивал. Он согласился с тем, что "отец символизма"-
Тютчев - жив и по сей день и будет еще долго жить, но только в силу своего огромного поэтического дара.
Говоря о "разрыве с русской интеллигенцией" как о положительном факте, самого себя Есенин ставил в ряды новой советской интеллигенции, рожденной Октябрем.
"Литературное безрыбье"... Это была постоянная тема Есенина в 1924 году.
Приветствую Вас за стихи Ширяевца. Я рад, что мое стихотворение помещено вместе с Вашим. Я давно знаю Вас из ежемесячника и по 2 номеру "Весь мир". Стихи Ваши стоят на одинаковом достоинстве стихов Сергея Клычкова, Алексея Липецкого и Рославлева. Хотя Ваша стадия от них далека. Есть у них красивые подделки под подобные тона, но это все не то.
Извините за откровенность, но я Вас полюбил с первого же мной прочитанного стихотворения. Моих стихов в Чарджуе Вы не могли встречать, да потом я только вот в это время еще выступаю. Московские редакции обойдены мной успешно. В ежемесячнике я тоже скоро, наверное, появлюсь.
Есть здесь у нас еще кружок журнала "Млечный Путь". Я там много говорил о Вас, и меня просили пригласить Вас. Подбор сотрудников хороший. Не обойден и Игорь Северянин. Присылайте, ежели не жаль, стихов, только без гонорара. Раскаиваться не будете. Журнал выходит один раз в месяц, но довольно изрядно.
Кстати, у меня есть еще Ваше стихотворение "Городское". Поправьте, пожалуйста, последнюю строчку.
"Не встречу ль я любезного на улице в саду" - переправьте как-нибудь на любовную беду. А то уж очень здесь шаблонно.
Строчки "что сделаю-поделаю я с девичьей тоской"- краса всего стихотворения. Оно пойдет во 2 номере "Друг народа". Если можно, я попросил бы карточку с Вашей персоны. Ведь книги стихов у Вас нет.
Очень рад за Вас, что вашу душу девушка-царевна вывела из плена городского. Вы там вдалеке так сказочны и прекрасны...
Со стихами моими Вы еще познакомитесь. Они тоже близки Вашего духа и Клычкова.
■ Перелистывая книжку "Журнала для всех", Есенин встретил в ней несколько стихотворений Александра Ширяевца...
- Какие стихи! -
горячо заговорил он.- Люблю я Ширяевца! Такой он русский, деревенский!
Как-то среди разговора о стихах Есенин сказал:
- Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси.
...Я читал Есенину свою поэму... Есенину поэма, должно быть... нравилась, по крайней мере, при удачных строках он издавал одобрительные восклицания и его глаза сияли.
■ Большое Вам спасибо, Алексей Михайлович, за книги. Читал "Весеннее порошье" и от первых рассказов все время готов был захныкать. Земляк мой тоже велел передать спасибо. Очень уж ему понравилась "Яблонька".
С красным звоном, дорогой баюн Жигулей и Волги. Цвети крепче.
■ Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с повернем наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.
Тут о "нравится" говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это - "ты". Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить.
Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движения был бы скучен, и мы, пожалуй, легко бы сошлись с ними. Сидели бы за их столом рядом, толковали бы, жаловались на что-нибудь. А какой-нибудь эго - Мережковский приподымал бы свою многозначительную перстницу и говорил: гениальный вы человек, Сергей Александрович или Александр Васильевич, стихи ваши изумительны, а образы, какая образность, а потом бы тут же съехал на университет, посоветовал бы попасть туда и, довольный тем, что все-таки в жизни у него несколько градусов больше при университетской закваске, приподнялся бы вежливо встречу жене и добавил: "Смотри, милочка, это поэт из низов..." А она бы расширила глазки и, сузив губки, пропела: "Ах, это вы самый, удивительно, я так много слышала, садитесь". И почла бы удивляться, почла бы расспрашивать, а я бы ей, может быть, начал отвечать и говорить, что корову доят двумя пальцами, когда курица несет яйцо, ей очень трудно, и т. д. и т. д.
Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них - Белинский, говоря о Кольцове, писал "мы", "самоучка", "низший слой" и др., а эти еще дурнее.
Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим. Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.
На остальных же просто смотреть не хочется.
С ними нужно не сближаться, а обтесывать как какую-нибудь плоскую доску и выводить на ней узоры, какие тебе хочется, таков и Блок, таков Городецкий и все и весь их легион.
Бывают, конечно, сомнения и укоры в себе, что к чему и зачем все это, но как только взглянешь и увидишь кого-нибудь из них, так сейчас же оно, это самое-то и всплывает. Любопытно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов.
Я очень и очень был недоволен твоим приездом туда, особенно твоими говореньями с Городецким. История с Блоком мне была передана Миролюбовым с большим возмущением, но ты должен был ее так не оставлять и душой своей не раскошеливаться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты все это делал.
В следующий раз мы тебя научим наглядно, как быть с ними...
...Я выпускаю книгу в одном издательстве... и выпущу сборник пятерых - тебя, меня, Танина. Клюева и Клычкова. (О Клычкове поговорим еще, он очень и близок нам, и далек по своим воззрениям.)
(О советских писателях)
За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта, но - увы! - на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны, поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюкания со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи.
Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина,- которые действительно внесли вклад в русскую художественную литературу.
Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее, беспристрастными глазами художника.
У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. "Помилуйте,- слышится из уст доморощенных критиков,- да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?"
Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что они Пильняка не читали. Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений. У него есть превосходные места в его "Материалах к роману" и в "Голом годе", которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают местам Гоголя. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки.
То, что Пильняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем рассейским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка и совсем не плохая, а, наоборот,- красивая. Эта сочность правдива, как сама жизнь.
Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и в заграничной прессе. Его рассказ "Дитё" переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов, которые литературу вообще считают, если она не ремесло, пустой забавой. Об Иванове установилось мнение как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин. Его "Партизаны", "Бронепоезд", "Голубые пески" и "Берег" происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую. В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен. Наряду со своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок.
Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя...1
Далее зачеркнуто: весьма огромное.
■ Есенин... берет с подоконника "Голубые пески" Всеволода Иванова. Перелистывает. Бросает на стол. Снова, не читая, перелистывает и с аффектацией восклицает:
- Гениально! Гениальный писатель.
■ Я ... Ты же знаешь [говорил Есенин Всеволоду Иванову], как я тебя люблю, всей душой. Ты сам не понимаешь, какой ты чертовски хороший писатель "Дитё" твое - ах какая высота! Ты даже Европу пронял, американцев и тех покорил. Я о тебе статью напишу. Критиком для тебя сделаюсь. Еще могу!..
И поэт крепко трижды расцеловал смущенного друга.
О "зареве" орешина
Петр Орешин."Зарево". Книга стихов. Издателъство "Революционный социализм".
Кто любит родину? Ветер бродяга ответил господу: - Кто плачет осенью Над нивой скошенной и снова радостно Под вешним солнцем В поле босой и без шапки Идет за сохой - Он, господи, больше всех любит родину.
Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни, когда "бог смешал все языки", когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло "родину", книга эта как-то особенно становится радостной.
Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: "Отче наш, иже еси..."
Петр Орешин уже знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам, но те, которые знают его отрывочно, конечно, имеют о нем весьма неполное представление. У каждого поэта есть свой общий тон красок, свой ларец слов и образов. Пусть во многих местах глаз опытного читателя отмечает промахи и недочеты, пусть некоторые образы сидят на строчках, как тараканы, объедающие корку хлеба, в стихе, - все-таки это свежести и пахучести книги нисколько не умаляет, а тому, кто видит, что "зори над хатами вяжут широченные сети", кто слышит, что "красный петух в облаках прокричал", - могут показаться образы эти даже стилем мастера всех этих коротких и длинных песенок, деревенских идиллий.
Перед Орешиным еще широкое будущее. Гадать о том, разовьется он или завянет, сейчас довольно трудно, но услышавшие от него через "Зарево" о том, что
Месяц ушел в облака За туманный плетень, Синие чешет бока За лачугами день,-
будут помнить об этом, как о черемуховом запахе, долго.
(О пролетарских писателях)
...горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. Жизнь любит говорить о госте и что идет как жених с светильником "по полунощи".
Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады, пламя которой нежно оберегалось от ветра ладонями его взыскующих душ.
Но зато нельзя сказать того, что на страницах этих обоих сборников с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.
Есть благословенная немота мудрецов и провидцев, есть благое косноязычие символизма, но есть и немота и тупое заикание. Может быть, это и резко будет сказано, но те, которые в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков, все-таки немы по-последнему.
Кроме зова гудков, есть еще зов песни и искус в словах. На древних дагинийских праздниках песнотворцы состязались друг с другом так же, как на праздниках мечей и копий. Но представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут. Они очень во многом еще лишь слабые ученики пройденных дорог или знакомые от века хулители старых устоев, неспособные создать что-либо сами. Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова:
Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, Растопчем искусства цветы.
Уже известно, что, когда пустая бочка едет, она громче гремит. Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти с вчерашней волчею мудростью века по акафистам Ницше, но все же это сказано без всякого внутреннего оправдания, с одним лишь чахоточным указанием на то, что идет "завтра", и на то, что "мы будем сыты".
Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка, и только лишь чувствует, не стараясь и не зная, с каких сторон опустить на нее свои стопы, еще далек от тени Колумба. Он только лишь слабый луч брезжущего в туман, как соломенный сноп, солнца, того солнца, которое сходит во ад, родив избавление. Он даже и не предтеча, потому что в предтече уже есть петли, которые могут связать. Но до того лассо, которое сверкает в смуглой руке духовного Тодаса, далеко и предтече, и потому все, что явлено нам в этих сборниках, есть лишь слабый звук показавшейся из чрева пространства головы младенца. Конечно, никто не может не приветствовать первых шагов ребенка, но и никто не может сдержать улыбки, когда этот ребенок, неуверенно и робко ступая, качается во все стороны и ищет инстинктивно опоры в воздухе. Посмотрите, какая дрожь в слабом тельце Ивана Морозова. Этот ребеночек качается во все стороны, как василек во ржи. Вглядитесь, как заплетаются его ноги строф:
Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного
сада,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо
приник.
Здесь он путает левую ногу с правой, здесь спайка стиха от младенческой гибкости выделывает какой-то пятки ломающий танец. Поставьте вторую строку на место третьей и третью на место второй, получается стихотворение совершенно с другой инструментовкой:
Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного
сада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо
приник.
Этого даже нельзя придумать нарочно. Такая шаткость строк похожа на сосну с корнями верх, и все же мысль остается почти неизменной. Конечно, это только от бледности ее, оттого, что мысль как мысль здесь и не ночевала. Здесь одни лишь избитые, засохшие цветы фонографических определений, даже и не узор. Но узоры у некоторых, как например у Кондратия Худякова, попадаются иногда довольно красивые и свежестью своей не уступают вырисовке многих современных мастеров:
Бабушка вздула светильню. Ловит в одежине блох. "Бабушка, кто самый сильный В свете?" - "Сильнее всех бог!" Лепится кошкой проворной На стену тень от огня. "Бабушка, кто это черный Смотрит в окно на меня?"
Но, увы, это только узор. Того масла, которое теплит душу огнем более крепких поэтических откровений, нет и у Худякова. Он только лишь слабым крючком вывел первоначальную линию того орнамента, который учит уста провожать слова с помазанием.
Творчество не есть отображение и потому так далеко отходит от искусства, в корне которого ("искус") - отображение обстающего нас. Искусство - Антика; оно живет тогда, когда линии уже все выисканы, а творчество живет в искании их.
Созидателям нового храма не мешало бы это знать, чтоб не пойти по ложным следам и дать лишь закрепление нового на земле быта. В мире важно предугадать пришествие нового откровения, и мы ценим на земле не то, "что есть", а "как будет".
Вот поэтому-то так и мил ярким звеном выделяющийся из всей этой пролетарской группы Михаил Герасимов, ярко бросающий из плоти своей песню не внешнего пролетария, а того самого, который в коробке мускулов скрыт под определением "я" и напоен мудростью родной ему заводи железа.
А здесь на согнутые спины Взвалили уголь, шлак и сталь. О, если б как в волнах дельфины, Без кочегарок и турбины, Умчаться в заревую даль!
К сожалению, представлен Герасимов в этом последнем сборнике весьма мало. Такие строчки, как например:
На плащанице звездных гроздий Лежит луны холодный труп, И, как заржавленные гвозди, Вонзились в небо сотни труб,-
напечатанные в "Заводе огнекрылом", обещают в нем поэта весьма и весьма несредней величины среди своих собратий.
Художественная проза сборников, увы, не заслуживает почти никакого внимания. Повесть "Вольница". Какой-то мутный и бесформенный лепет приемов Потехина и Засодимского, а мелкие рассказы - не то лирические силуэты, не то просто анекдоты из неприглядной и неприбранной жизни, где все лежит не на своем месте, где люди и вещи светят почти одним светом.
Проза пролетарская еще не нашла своих путей, как поэзия. В ней есть лишь от прошлого бледноликий Бибик и совсем слабый от "Нине" Безсалько.
Заканчивая эти краткие мысли о выявленных ликах сборников пролетарских писателей, мы все-таки скажем, что дорога их в целом пока еще не намечена. Расставлены только первые вехи, но уже хорошо и то, что к сладчайшему причастию тайн через свет их идет Герасимов.
Отчее слово
(По поводу романа Андрея Белого "Котик Летаев")
Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства, с божьим "туком" и воплями плащаницы.
В "Котике Летаеве"- гениальнейшем произведении нашего времени - он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи.
Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина - "отворись". Мы бьемся в ней, как рыбы в воде, стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что казалось так близко, взметнулось еще выше. И вот многое такое, что манит нас так, схвачено зубами Белого за самую пуповину... Истинный художник не отобразитель и не проповедник каких-либо определенных в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:
В затонах тишины созвучьям ставит сеть.
Слово изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду. Возглас "Да будет!" повесил на этой воде небо и землю, и мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее "отворись". "Прекрасное только то - чего нет",- говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию, где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и манит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где
У златой околицы Доит богородица Белых коз...
Но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрением и памятью в вещах, приближаемся только через "андреебеловское" "выкусывание за спиной".
Футуризм, пропищавший жалобно о "заумном языке", раздавлен под самый корень достижениями в "Котике Летаеве", и извивы форм его еще ясней показали, что идущие ему вслед запрягли лошадь не с головы, а с хвоста...
"Выбирайте в молитвах своих такие слова, над которыми горит язык божий,- говорил Макарий Желтоводский своим ученикам,- в них есть спасение грешников и рай праведных..." И такие слова почти сплошь пронизали творение Андрея Белого.
Суть не в фокусе преображения предметов, не в жесте слов, а в том самом уловлении, в котором если видишь ночью во сне кисель, то утром встаешь с мокрыми сладкими губами от его сока...
Но есть и горбатые слова, у которых перебит позвоночник. Они тоже имеют потуги, дюжатся снести такое же яйцо, какое несет "Кува красный ворон", но достижения их ограничиваются только скорлупой.
Они таят в себе что-то вроде подглядывания из-под угла, могут залезть в карман небу, обкусать края облаков, "через мудрены вырезы" пройдут мурашами, в озере ходят щукой, в чистом поле оленем скачут, за тучами орлом летят, но все это только фокус того самого плоского изображения, в котором, как бы душа ни тянулась из чешуи, она все равно прицеплена к ней, как крючком, оттого что горбата.
В мире важен беззначный язык, потому что у прозревших слово есть постижение огня над ним. Но для этого нужен тот самый дар, при котором Гете, не обладая швабским наречием, понимал Гебеля без словаря...
Слово, прорывающее подпокрышку нашего разума, беззначно. Оно не вписывается в строку, не опускается под тире, оно невидимо присутствует. Уму, не сгибающему себя в дугу, надо учиться понимать это присутствие, ибо ворота в его рай узки, как игольное ухо, только совершенные могут легко пройти в них. Но тот, кому нужен подвиг, сдерет с себя четыре кожи и только тогда попадет под тень "словесного дерева". "Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие",- отвечал спрашивающим себя Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Россию. И вот слишком много надо этой "туги", чтоб приобщиться.
"Слетит мне звездочка на постельку, усиком поморгает..."
Но как к образу, а именно, как к неводу того, что "природа тебя обстающая - ты", и среди ее ущелий тебе виден младенец. Потому и сказал Клюев:
Приложитесь ко мне, братья, К язвам рук моих и ног,- Боль духовного зачатья Рождеством я перемог...
"Слова поэта уже суть дела его",- писал когда-то Пушкин. Да, дела, но не те, о которых думал Жуковский, а те, от которых есть "упоение в бою, и бездны мрачной на краю". Свободный в выборе предмета не свободен выйти из него. Разрывая пальцами мозга завесу грани, он невольно проскажет то, что увидят его глаза, и даже желал бы скрыть, но не может.
В этом вся цель завоеваний наших духовных ценностей. И только смелые, только сильные, которые не боятся никакого дерзания, найдут то "отворись", на пороге которого могут сказать себе: "О слово, отчее слово, мы ходили с тобой на крыле ветрянем и устне наши невозбраним во еже звати тебе..."
■ С тоски перечитывал "Серебряного голубя". Боже, до чего все-таки изумительная вещь. Ну разве все эти Ремизовы, Замятины и Толстые (Алекс.) создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним. А какой язык, какие лирические отступления! Умереть можно. Вот только и есть одна радость после Гоголя.
■ ...Словотворчество Хлебникова [говорил Есенин на "Суде над русской литературой"] не имеет ничего общего с историей развития русского языка, ... словотворчество Хлебникова произвольно и хаотично, ... оно не только не намечает нового пути для русской поэзии, а, наоборот: уничтожает возможность движения вперед.
■ Вечер. Идем по Тверской... Есенин критикует Маяковского, высказывает о Маяковском крайне отрицательное мнение.
Я:
- Неужели ты не заметил ни одной хорошей строчки у Маяковского? Ведь даже у Тредьяковского находят прекрасные строки?!
Есенин:
- Мне нравятся строки о глазах газет: "Ах, закройте, закройте глаза газет!"
И он вспоминает отрывки из двух стихотворений Маяковского о войне: "Мама и убитый немцами вечер" и "Война объявлена".
Читает несколько строк с особой, свойственной ему нежностью и грустью.
Неоднократно Есенин утверждал, что Маяковский весь вышел из Уитмена.
■ Маяковского [говорил Есенин] считаю я очень ярким поэтом, но лишенным духа новаторства: он весь идет от Уитмена. А главное: у него нет поэтического мироощущения.
■ ...Глазам моим предстал Нью-Йорк.
Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии. Ваши "кузницы" и ваши "лефы"- как Тула перед Берлином или Парижем.
■ ...Есенин в период недовольства имажинизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским...
■ Из левых своих современников почитал [Есенин] Маяковского: - Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном,- говаривал он,- и многие о него споткнутся.
■ Есенин... заговорил о живописи; недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Верлена, даже Рембо. Потом он начал декламировать Пушкина: "... и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю". Вдруг обрушился на Маяковского: "Тит да Влас... А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия?.." Меня его слова не удивили: незадолго до того я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. "Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего... Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят... (Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия.) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь". Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении и нехотя признал, что Маяковский - поэт, только "неинтересный". Он начал спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это - озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир, не брезгал балаганом, а создал Гамлета. Это не Тит и не Влас (он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас). Он снова декламировал Пушкина, говорил: "Написать бы одно четверостишие такое - и умереть не страшно... А я обязательно скоро умру..."
На улице, когда мы прощались, Есенин сказал: "Поэзия не пирожные, рублями за нее не расплатишься..."
■ Есенин читал мне "Черного человека"... Говоря о самой поэме, он упирал на то, что работал над ней два года, а напечатать нигде не может, что редактора от нее отказываются, а между тем это лучшее, что он когда-нибудь сделал.
Мне поэма действительно понравилась, и я стал спрашивать, почему он не работает над вещами, подобными этой, а предпочитает коротенькие романсного типа вещи, слишком легковесные для его дарования, портящие, как мне казалось, его поэтический почерк, создающие ему двусмысленную славу "бесшабашного лирика".
Он примолк, задумался над вопросом и, видимо, примерял его к своим давним мыслям. Потом оживился, начал говорить, что он и сам видит, какая цена его "романсам", но что нужно, необходимо писать именно такие стихи, легкие, упрощенные, сразу воспринимающиеся.
- Ты думаешь, легко всю эту ерунду писать?- повторил он несколько раз.
Он именно так и сказал, помню отчетливо.
- А вот настоящая вещь - не нравится!- продолжал он о "Черном человеке".- Никто тебя знать не будет, если не писать лирики; на фунт помолу нужен пуд навозу - вот что нужно. А без славы ничего не будет! Хоть ты пополам разорвись - тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!
Я, похвалив его поэму, указал тут же, что по основному тону, по технической свежести, по интонациям она ближе к нам, в особенности к Маяковскому.
Он привстал, оживился еще более, разблестелся глазами, тронул рукой волосы. Заговорил о своем хорошем чувстве к нам, хотел повстречаться с Маяковским. О том, что он технически вовсе не отстал, что мастерство ему дороже всего на свете, но что мастерство это нужно популяризировать, уже подготовив почву известностью, что читатель примет тогда и технические особенности, если ему будет импонировать вознесенное до гениальности имя.
■ ... Мне... до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией... Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом!.. Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил. Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем.
■ - Нет, ты только послушай, как заливается этот индейский петух!
И, раскрыв пухлый том Бальмонта, громко и высокопарно, давясь подступавшим смехом, Есенин читал нараспев и в нос какую-то необычайно звонкую и трескучую строфу, подчеркивая внутренние созвучия. И тут же хватался за лежавший рядом сборник Игоря Северянина.
- А этот еще хлестче! Парикмахер на свадьбе!
■ В стихотворении ["Платан Пушкина"] было шестнадцать строчек, а он [Есенин] сделал около двадцати пяти замечаний, которые я записал:
- Пишешь: "грызут", а в следующей строке: "грызню". Не годится! Потом: "И тут говорили мне Пушкин". Мнепушкин! Замени! "Тихие плески". Нашел новый эпитет! Или: "О милой подруге!" Подумай! А уж это черт знает что: "возглас земли"...
Раздраконив "Платан", он сказал, что после приезда из Ленинграда надеется получить от меня переработанное стихотворение, так как хочет в первом же номере "Вольнодумца" напечатать написанные разными поэтами посвященные Пушкину новые стихи.
- Сережа, где мне тягаться с именами!
- Кто редактор: ты или я?
- Ты!
- Работай,- продолжал он сердито...
Я работал над "Платаном", Есенин слушал стихи еще один раз и снова сделал замечания...
Есенин перебирает в папке другие мои стихи: вот "Песня портного", которую я при нем читал в консерватории,- он одобрительно кивает головой. Дойдя до "Песни о наборщике", он делает замечания, а потом, отлично знающий типографский труд и рабочих-печатников, дает поправки, советы, подсказывает кое-что...
Читая цикл "Россия", Сергей говорит:
- Ага, взялся за ум!
Однако из всего цикла ему нравится только третье стихотворение:
Еще задорным мальчиком Тебя любил и понимал, Но ты была мне мачехой В романовские времена.
Прочитав это четверостишие, он снова начинает критиковать - на этот раз суровей. В дверь стучится Иван Грузинов, я впускаю его...
- Исповедуешь?- спрашивает Иван Есенина.
- Лентяй! - восклицает по моему адресу Сергей...- В поэзии, как на войне, надо кровь проливать!..
Письмо Я. Е. Цейтлину
Дорогой товарищ Цейтлин. Спасибо Вам за письмо. Жаль только то, что оно застало меня очень поздно. Я получил его только вчера, 12/ХП 25 г. По-видимому, оно провалялось у кого-нибудь в кармане из прожекторцев, ибо поношено и вскрыто. Я очень рад и счастлив тем, что мои стихи находят отклик среди николаевцев. Книги я постараюсь Вам прислать, как только выйду из санатории, в которой поправляю свое расшатанное здоровье.
Из стихов мне Ваших понравилась вещь о голубятне и паре голубей. Вот если б только поправили перебойную строку и неряшливую "Ты мне будешь помощником хошь", я бы мог его отдать в тот же "Прожектор".
Дарование у Вас безусловное, теплое и подкупающее простотой, только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов.
Не берите и не пользуйте избитых выражений. Их можно брать исключительно после большой школы, тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера они выглядят по-другому.
Избегайте шатких, зыблемых слов и больше всего следите за правильностью ударений. Это очень нехорошо, что Вы пишете были, вместо были.
Желаю Вам успеха как в стихах, так и в жизни и с удовольствием отвечу Вам, если сочтете это нужным себе. Жму Вашу руку.
Москва, 13 декабря 1925 года.
- Сережа, у тебя вот сказано:
Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, Суй туда палец весь, Только вот с эфтой силой В душу свою не лезь.
Ведь слово "эфтой"- это все-таки оборот не литературный, вульгаризм.
Он [Есенин] оставляет мою аргументацию без всякого внимания.
- А как иначе ты скажешь? С "этой" силой?- спрашивает он, смеется, и разговор прекращается, чтобы возобновиться спустя несколько дней.
- Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил?- напоминает он.- Ну, а тебе известны эти строки:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв...
- Гумилев?
- Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: "И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими". Ну, что-то в этом роде: "обняв" или "обнявшие"? Но, "обнявшие колени" - ничего не видно, а "колени обняв" - сразу видишь позу...
■ Иван Рукавишников выступает в "Стойле Пегаса" со "Степаном Разиным". Есенин стоит близ эстрады и внимательно
слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.
В перерывах и после чтения "Степана Разина" он повторяет:
- Хорошо! Очень хорошо! Талантливая вещь!
■ Бывает так: привяжется какой-нибудь мотив песни или стихотворный отрывок, повторяешь его целый день. К Есенину на этот раз привязался Демьян Бедный:
Как родная меня мать
Провожала.
Тут и вся моя родня
Набежала.
Он пел песню Демьяна Бедного, кое-кто из присутствующих подтягивал.
- Вот видите! Как-никак, а Демьяна Бедного поют. И в деревне поют. Сам слышал!- заметил Есенин,
■ Багрицкий прочел [Есенину] свои "Стихи о соловье и поэте". Есенин внимательно выслушал, а потом сказал:
- Стихи интересные, яркие, но я бы на вашем месте ограничился двенадцатью-шестнадцатью строками, а у вас целых шестьдесят. Разве можно на лирическую тему писать так длинно?
Багрицкий возразил:
- Да ведь это стихотворение сюжетное, оно требует больших размеров.
Потом они заспорили из-за одного ударения. Багрицкий написал "земля рассолодила", а по мнению Есенина, надо было "рассолодела". Багрицкий же настаивал, что в этом слове допустимы два ударения...
■ Говорили о Ходасевиче.
Из двух стихотворений - "Звезды" и "Баллада"- Есенин предпочел первое.
- Вот дьявол! Он мое слово украл! Ты понимаешь, я всю жизнь искал этого слова, а он нашел. Слово это: жидколягая.
- А "Баллада"?
- Нет, "Баллада" не то! Это, брат, гофманщина! А вот первое - прелесть!
■ Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:
- Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретится со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?
- А ты руки ему не подавай! - отвечает Сахаров.
- Я не подам руки Мережковскому,- соглашается Есенин,- я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы оставались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!
Дама с лорнетом
Вроде письма
(На общеизвестное)
Когда-то я мальчиком, проезжая Петербург, зашел к Блоку. Мы говорили очень много о стихах, но Блок мне тут же заметил, вероятно по указаниям Иванова-Разумника: "Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура". Это были слова Блока. После слов Блока, к которому я приехал, впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус - подозрительней. Один только
Философов, как и посейчас, занимает мой кругозор, которому я писал и говорил то устно, то в стихах; но все же Клюев и на него составил стихи, обобщая его вместе с Мережковскими.
- Что такое Мережковский?
- Во всяком случае, не Франс.
- Что такое Гиппиус?
- Бездарная завистливая поэтесса.
В газете "Eclair" Мережковский называл меня хамом, называла меня Гиппиус Альфонсом за то, что когда-то я, пришедший из деревни, имел право носить валенки.
- Что это на вас за гетры?-спросила она, наведя лорнет.
Я ей ответил:
- Это охотничьи валенки.
- Вы вообще кривляетесь.
Потом Мережковский писал: "Альфонс, пьяница, большевик!"
А я ему отвечал устно: "Дурак, бездарность!"
Клюев, которому Мережковский и Гиппиус не годятся в подметки в смысле искусства, говорил: "Солдаты испражняются. Где калитка, где забор - Мережковского собор". Действительно, колоннады. Мадам Гиппиус! Не хотите ли Лориган? Ведь вы в "Золотое руно" снимались так же в брюках с портрета Сомова.
Лживая и скверная Вы. Все у Вас направлено на личное влияние Вас. Вы пишете: "Основа партии общее утверждение ценностей". Это Вы пишете. Безмозглая и глупая дама. Даже Шкловский помнит, что Вы говорили и что опять пишете: "крайнюю" хату, левую или правую, это безразлично, раз он художник. Такое время". Слова Ваши.
Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь.
Это суждение к нам не подходит. Дорога Ваша ясна с Вашим игнорированием нас. (Хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные.)
Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию. Все равно Вы будете путешественники по стране СССР с Бедекером.
■ Есенин жаловался, что ему "не с кем" работать. По его словам выходило, что с имажинистами он разошелся. "Крестьянские" же поэты ему были не в помочь. Он говорил, что любит Маяковского и Хлебникова. Они ему нравились не только, как книжные поэты, но нравилась ему их жизнь, их борьба, их приемы и способы своего становления.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"