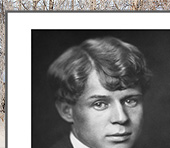


В. О. Перцов. "Живое и железное"
(Человек - природа - техника)
Иные "вечные проблемы" - такие, например, как человек и природа, человек и машина,- получают ныне совершенно новую постановку, становятся исключительно актуальными для каждого жителя Земли.
Современная эпоха научно-технической революции развернула перед всем человечеством вместе с широкими горизонтами технического прогресса и задачу защиты природной среды, то есть "биосферы", от некоторых невыгодных последствий вторжения в нее человека со своей техникой "покорения" природы. С другой стороны, просто голая земля, без человека и без всяких признаков жизни,- вот перспектива, поставленная совершенно реально перед всеми обитателями нашей планеты угрозой ядерной войны. Мы ведем борьбу за мир во имя человека. Мы творим новую технику и защищаем, природу для человека. Если все это содержание нашей жизни взять в плане человеческих эмоций, то следует сказать, что извечно присущая человеку связь с природой, любовь к ней дополняются ныне новым чувством - отношением к технике.
... Опираясь на саму действительность как на реальную почву художественного творчества, мы увидим, как эстетика природы, традиционная для искусства, все больше будет входить в сложное и многообразное сочетание с эстетикой технической или индустриальной..
В одной из своих работ, названной Марксом "гениальным наброском критики экономических категорий", Энгельс писал о будущей социальной революции, которой предстоит проложить путь к "тому великому перевороту, навстречу которому движется наш век,- примирению человечества с природой и с самим собой".
В категориях эстетики социалистического реализма "железное", поставленное на службу человеку, как проявление его творческого самоутверждения во имя благополучия и счастья людей на Земле, ни в коем случае не является "бездушной техникой". Искусство социалистического реализма расстается с этим лицемерным стереотипом буржуазного мышления, якобы направленным в защиту человека, хотя расстается, нужно сказать, не без внутреннего сопротивления - по инерции от прошлого. И все же, осваивая новую действительность, наши художники все больше будут вдохновляться новой красотой единства индустриального мира с миром природы - ведь противоречия между городом и деревней постепенно будут сходить на нет. В нашем художественном мышлении воплощение категорий "живого" и "железного" в их органическом единстве становится естественной задачей искусства и аспектом образа нового человека.
Как будет решена эта проблема в созданиях самобытного художника, которого ждет наш век перехода к социализму и коммунизму, - этого никто сказать не может. Судьба искусства не только в направлении, - но и в масштабе, в характере дарования художника, потому, что, говоря словами Блока, "вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения".
В истории советской многонациональной литературы накоплен уже ценнейший опыт "вскрытия" этой "духовной глубины". Известно, например, что Маяковский и Есенин хотя и полемизировали друг с другом предельно остро, но шли к сближению, представляя собой разные течения русской советской поэзии, как одной из форм нового общественного сознания. Если сопоставить с ними творчество Александра Довженко - замечательного писателя (а не только кинорежиссера), то можно увидеть своеобразное решение им того конфликта между "живым" и "железным", на котором сталкивались Маяковский и Есенин. Этот конфликт, порожденный социалистической индустриализацией, позволяет глубже понять общность задач, поставленных историей перед советскими художниками разных национальностей. Есенин - это Русь в ее исторической судьбе и в ее предназначении, как Русь советская - прообраз Союза Советских Социалистических Республик. В расцвете своего дарования, приближаясь к вершине своего стремительного, исполненного трагических противоречий творческого пути, Есенин в знаменитом стихотворении "Русь советская" подвел итог своему гражданскому самосознанию поэта страны, давшей миру Ленина. Вот эти крылатые строки:
Но и тогда, Когда во всей планете Пройдет вражда племен, Исчезнет ложь и грусть,- Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким "Русь".
Вместе с пониманием значения Ленина как "капитана земли" пришло к Есенину страстное желание быть "настоящим", а не "сводным сыном - в великих штатах СССР". Для Есенина это и означало нести в будущее образ родины, самый близкий его сердцу, образ Руси, ставшей после Октябрьской революции близким для всех людей, "во всей планете", несовместимый с "враждой племен"...
Есенин глубоко честен и, не отказываясь ни от чего прекрасного, связанного с воспоминаниями своего деревенского детства, задавался в своей ранней "Руси" вопросом:
люблю тебя, родина кроткая! А за что - разгадать не могу.
Как не вспомнить тут Лермонтова с его "Люблю отчизну я, но странною любовью"! Нет никакого сомнения, что и у Есенина вместе с идеализацией "деревянной Руси", которую Октябрьская революция призвана была вызволить из вековой отсталости, было и это чувство "странной любви" к стране детства, к ее природе и образам людей, к первым радостям познания жизни. Нет ничего удивительного в том, что при жизни поэта эта сторона поэзии Есенина отступала перед тем в ней, против чего со всей резкостью должен был в 1924 году протестовать А. К. Вронский, в то время крупный советский критик, сумевший оценить в полную меру масштаб дарования молодого поэта: "...в своих ожиданиях мужицкой "Инонии" без машин и приводных ремней Есенин должен был обмануться... Людей есенинских настроений пугает общая механизация жизни... Так именно и нужно понимать трогательный образ красногривого жеребенка и воспоминание о временах печенегов...Он уже слышит победный рожок железного врага и знает, что его, поэта, ждет черная гибель. Он выступает здесь как реакционный романтик, он тянет читателя вспять к сыченной браге, к деревянным петушкам и конькам, к расшитым полотенцам и домострою. Нужды нет, что оправлено все это в прекрасную, сильную художественную форму".
Эта оценка творчества Есенина дана критиком до появления "Руси советской", еще без учета того крутого сдвига, который произошел в творчестве Есенина после его возвращения из Америки, когда, как он признавался, "зрение его переломилось". В замечательном Очерке "Железный Миргород" поэт со всей решительностью заявил: "Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь", как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию".
В есенинских словах о "нищей России" нельзя видеть повторения Блока, в них нет никакой поэтической "странности". В них страстное, прямое слово публициста, гражданина Советской России. Недаром, отрицая с негодованием "всех цепляющихся за "Русь", как за грязь и вшивость" (а таких немало было среди поэтической братии тех лет), Есенин провозглашает: "С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, - я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве".
Эта надежда была высказана в последние месяцы 1923 года, "Железный Миргород" печатался тогда в "Известиях". Но летом 1924 года, когда создается "Русь советская", поэт вносит новый, очень существенный оттенок, я бы сказал, поправку в публицистическое высказывание о перспективах своего творчества.
Приемлю все. Как есть все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам.
Эта декларация полностью подтверждает новую общественную позицию Есенина, однако Есенина-поэта с его "лирой" ставит в несколько особое положение, о чем с еще большей силой и откровенностью говорят следующие строки:
Я не отдам ее в чужие руки, Ни матери, ни другу, ни жене. Лишь только мне она свои вверяла звуки И песни нежные лишь только пела мне.
Получается парадокс, сущность которого нельзя затушевывать, напротив, следует попытаться его проанализировать, потому что в нем особенность Есенина-художника. В чем же все-таки своеобразие той "лиры", которую Есенин не хотел отдавать никому, и даже "ни матери, ни другу, ни жене"?
Мы не можем сегодня повторить вместе с критиком его первых произведений: "он уже слышит победный рожок железного врага и знает, что его, поэта, ждет черная гибель...". На полях Советской страны "железный гость" теперь для Есенина не враг, а друг, но вся боль поэта в том, сможет ли он встретить его песней, достойной своей лиры! "Я сердцем никогда не лгу" - в этом сила его проникновения во все сердца. Он написал стихотворение, которое звучало как лирическая декларация его поворота к "железной Руси", - декларация-исповедь, в которой все было правдой сердца:
Я не знаю, что будет со мною... Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь.
Стихотворение это было впервые опубликовано 25 мая 1925 года в газете "Бакинский рабочий". Но всего через месяц с небольшим, 20 июля того же года, он печатает в той же газете новое стихотворение, тоже лирическую декларацию, которая на первый взгляд расходится со смыслом предшествующей:
Спит ковыль. Равнина дорогая, И свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь. .................................. И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась жизнь судьбы, Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы.
Как будто противоречие между желанием видеть Русь "стальною" и поэтической присягой "золотой бревенчатой избе". Но оно исчезает, если этот последний образ воспринимать не буквалистски, а шире, как обобщение, как образ той земли, на которой от века жил русский народ еще задолго не только до Есенина, но и до Лермонтова. Пейзаж русской деревни, когда творил Лермонтов, мало в чем изменился при Есенине, хотя социальные отношения в ней, конечно, решительно изменились после Октябрьской революции, и время вело к коренному социальному перевороту в жизни деревни, который позднее принесла коллективизация. Но ведь Есенин писал прежде всего пейзаж и некоторые, наиболее устойчивые черты быта. Новым у Есенина стало восхищенное признание "железного" будущего как единственного пути любимой Руси и безмерная горечь:
Я тем завидую, Кто жизнь провел в бою. Кто защищал великую идею. А я, сгубивший молодость свою, Воспоминаний даже не имею.
Но и не разрешив противоречия между "живым" и "железным" в своей поэзии, Есенин открытым, огромной поэтической силы признанием трагической сложности этого противоречия, сложности для художника осознания исторического перелома, воспел грядущий путь Руси советской, утвердил образ новых людей: "Цветите, юные! И здоровейте телом!"
Стоит вспомнить, что еще в канунные годы перед Октябрем и у Александра Блока в его поэтической любви к "нищей России" был свой подтекст - тревога о будущем народа, о лежащих под спудом богатствах родной земли. В первой газетной редакции его знаменитой "России" были такие строфы:
Твои болотистые топи Обманчивы, как ты сама: Там угля каменного копи, Там драгоценных камней тьма! Сулишь ты горы золотые, Ты дразнишь дивным мраком недр. Россия, нищая Россия, Обетованный край твой щедр.
Это было опубликовано в 1910 году. В окончательном тексте стихотворения этих строф нет. По-видимому, Блока-художника не удовлетворило газетное публицистическое решение темы. Но в еще более раннем черновом наброске России" после строфы:
Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу... Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!-
следовала очень двойственная по смыслу:
Пускай скудеющие нивы Устелют красным кирпичом, И остов фабрики спесивый Твоим да будет палачом.
Эпитет "спесивый" по отношению к капиталистической фабрике и образ "палача" явно вступали в противоречие. Тем не менее восторженное предвидение иного лика родины, промышленно сильной, не оставляло Блока. И только в 1913 году пришло к поэту художественное решение задачи в стихотворении "Новая Америка".
Конечно, пафос Блока - в подъеме воли русского народа, в сознании силы народных масс и огромности природных богатств страны: "а какое великое возрождение, т. е. сдвиг всех сил, нам предстоит, - записал Блок примерно через год, - и до какой степени техника и художественное творчество немыслимы друг без друга... мы скоро увидим..."
На пустынном просторе, на диком Ты все та, что была, и не та, Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта... Черный уголь - подземный мессия, Черный уголь - здесь царь и жених, Но не страшен, невеста, Россия, Голос каменных песен твоих! Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда... То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда!
Теперь уже не "остов фабрики спесивый", а "многоярусный корпус" завода радостно "вдруг" встает перед поэтом. Если в более ранней "России" слышится: "...Ты все та же - лес, да поле...", - то в "Новой Америке" прямо сказано: "...Ты все та, что была, и не та..." - и на вопрос: "Только ль страшный простор пред очами?.." - поэт уверенно отвечает: "...не страшен, невеста, Россия, голос каменных песен твоих!"
Да, не просто далось Блоку очеловечение "железного", как "живого".
Характерно, что образ Америки, первой индустриальной страны мира, с самого начала возник у Блока, судя по черновому подступу - варианту последней строфы, только для того, чтобы противопоставить ему новую Россию с "новым родом" людей, Россию индустриальную, городскую. И хотя "Новая Америка"- не самое характерное для блоковской поэзии с ее образом России, нельзя не видеть в этом стихотворении предвосхищения будущего.
"Голос каменных песен твоих" послышался и у Есенина в конце его творческого пути: "Через каменное и стальное вижу мощь я родной стороны". В новой судьбе поэта "Руси советской", с ее пафосом мощи "каменного и стального", Есенин прав, не отказавшись от прекрасного в своем прошлом - поэта "золотой бревенчатой избы". Но, как уже сказано, боль его в том, что он создал, а может быть, не успел создать новых песен, где "железное" стало бы такой же частью поэзии "живого", как руда, из которой люди плавят сталь, составляет пласт всеобъемлюще содержательной земли, которая в таких же муках рождает хлеб:
Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл - страдания людей. Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей.
Нет смысла гадать, в каких художественных решениях воплотилась бы у Есенина поэзия преобразования земли на новых общественных началах. Есенин ушел из жизни накануне эпохи первых пятилеток, когда в его "степном пении" могла прозвенеть новыми индустриальными мотивами красота властного вторжения машины в новую жизнь Земли, освобожденной новыми людьми и раскрывшейся во всей новой красоте родных просторов. Творческий опыт Блока, прошедшего от "России" к "Новой Америке", как бы предваряет Есенина в той оптимистической перспективе его развития, которую в свое время ясно увидел Маяковский: "... Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому".
Есенин с горечью говорил о себе в "Руси советской":
Уже ты стал немного отцветать, Другие юноши поют другие песни. Они, пожалуй, будут интересней - Уж не село, а вся земля им мать".
История рассудила иначе. Эхо есенинских песен звучит сегодня и в нашей стране, и во всем мире, с большой силой утверждая гумманистические идеалы Октябрьской революции: все для человека, все во имя человека. И есть своя диалектика в той проверке временем, когда передовые люди нашего рабочего класса, даже споря с Есениным, находят в его поэзии именно те слова, которые нужны им для выражения своих чувств.
Человек и живая природа - одна из тех основных сквозных есенинских тем, которые в художественном мышлении поэта получают очень глубокое своеобразное решение. Есенин со своей "неизреченностью животной", со своей "Песнью о собаке" - одним из наиболее лиричных его произведений - оказался эстетическим восполнением неудовлетворенной человеческой потребности. Мы в самом начале пути устранения противоречий между городом и деревней. "Лязг" - вовсе не обязательная принадлежность машин в наш век научно-технической революции, проводимой нами с теми преимуществами, которые дает социалистический строй. Человек не может жить вне связи с природой, но он не может осуществлять свои далеко идущие замыслы иначе, как на основе могучей техники. Но без "лязга".
Недаром такой певец индустриального города, как Маяковский, писал в очерках "Мое открытие Америки":
"Не грохот воспевать, а ставить глушители... Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, сабвеи, унесшие под землю всякую видимость.
Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности".
Это было сказано в 1925 -1926 годах, когда перед Советской страной со всей остротой встал вопрос об индустриализации. Но еще раньше Маяковский, ее певец, нарочито "перегибая палку", вспоминал эпизод из своего детства в первом варианте автобиографии "Я сам":
"Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами - ярче небо. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь".
Конечно, эта позиция была продиктована и литературной полемикой с "мужиковствующими". К ним Маяковский относил и Есенина. Но объективно в развитии русской советской поэзии Есенин занимал совершенно особое место, создавая свои картины русской природы. Разлюбив "нищую Россию", Есенин в своем образе Руси советской сохранил и по-новому выразил прелесть родной земли.
Одну из характерных особенностей поэзии автора "Руси советской" с удивительной глубиной определил А. М. Горький в своем очерке-воспоминании о встречах с поэтом, выделив стихотворение "Песнь о собаке": "...Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой "печали полей"; любви ко всему живому в мире и милосердия, которое - более всего иного - заслужено человеком".
Горький делился своими впечатлениями художника, но его высказывания и раздумья столь значительны, что в них можно найти опору для анализа некоторых особенностей художественного мира Есенина.
В той веренице образов животного мира, который обступает читателя с первых стихотворений раннего Есенина, не может не поразить отношение поэта к "зверью" как к "братьям нашим меньшим", смешанное чувство жалости, родственности, ответственности перед ними. "Думает грустную думу о белоногом телке": "Свяжут ей петлю на шее и поведут на убой" ("Корова"). "На раздробленной ноге приковыляла, у норы свернулася в кольцо" ("Лисица"), "Рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани", "Осень - рыжая кобыла - чешет гриву"; "Ягненочек кудрявый - месяц гуляет в голубой траве"; "За равной гладью вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под уздцы"; "Тучи с ожереба ржут, как сто кобыл"... Едва ли нужно умножать примеры, ибо здесь - самый характер художественного мышления Есенина, которое нашло одно из самых пронзительных своих воплощений в "Песне о собаке".
"Воспрянувшая Русь" после революции для Есенина никак не связывается с победой рабочего класса, который повел за собой мужика - труженика земли, освобожденной от власти помещиков. В этом слабость Есенина. Однако образы освобожденной земли, созданные им в первые годы после Октября, полны оптимистической выразительности в духе характерной для есенинского художественного мышления "неизреченности животной". Революция предстает всемогущей в стихотворении "Пантократор":
Славь, мой стих, кто ревет и бесится, Кто хоронит тоску в плече, Лошадиную морду месяца Схватить за узду лучей.
И если в более раннем "Небесном барабанщике" поэту представляется:
Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир,-
то теперь "лошадиная" метафора еще больше утверждает силу революции в фантастическом образе:
Сойди, явись нам, красный конь! Впрягись в земли оглобли. Нам горьким стало молоко Под этой ветхой кровлей. ....................... Мы радугу тебе - дугой, Полярный круг - на сбрую. О, вывези наш шар земной На колею иную.
Это было написано в 1919 году. Само собой разумеется, фантастический "красный конь" не мог вывезти Советскую Россию "на колею иную"; гражданская война еще усилила разорение страны, которую война империалистическая привела на край гибели. Не так просто объяснить, как определился в Есенине перелом от восторженного оптимизма "Пантократора" к отчаянию и страху перед "железным гостем", с такой поэтической силой выраженному в "Сорокоусте". Не так просто объяснить, если не поставить перед собой задачу попытаться понять особенности художественного мышления Есенина, сказавшего о себе тогда же: "Я последний поэт деревни...". В этой рекомендации есть, конечно, и прямой социологический смысл: поэт не понимал тогда задачи углубления Октябрьской революции в деревне, отобравшей землю у помещиков. Деревня вступила в период жестокой классовой борьбы, того расслоения, в котором, по словам Ленина, центральной фигурой становился середняк, чей союз с рабочим классом нужно было обеспечить всеми средствами. Но при всем восторженном удивлении, которое вызвал у Есенина вождь революции, он, по признанию поэта, был "вроде сфинкса предо мной". Разгадка "сфинкса", или, вернее, какое-то приближение к этому, - все пришло позже, о чем Есенин и сказал в "Руси советской": "Как есть все принимаю. Готов идти по выбитым следам". Но откуда при том хозяйственном развале и катастрофическом состоянии промышленности, когда деревня, у которой все-таки был хлеб, жила лучше города с его замершими и замерзшими заводами, когда лучшие, квалифицированные рабочие, политически наиболее передовые люди, были на фронтах гражданской войны, когда производительность даже на тех немногих заводах, которые еще дышали, снизилась до предела, когда Советская республика оказалась не только в огненном кольце интервенций, но и в непроницаемом кольце хозяйственной блокады буржуазного мира, - откуда, спрашивается, мог явиться так напугавший Есенина "железный гость"?
На тропу голубого поля Скоро выйдет железный гость. Злак овсяный, зарею пролитый, Соберет его черная горсть.
В следующей строфе образ "черной горсти" (то есть машины) получает такое развитие:
Не живые, чужие ладони, Этим песням при вас не жить! Только будут колосья-кони О хозяине старом тужить.
И сейчас находятся критики, которые готовы видеть в этом образе вопль хозяина маленького земельного куска. Но дело обстоит сложнее - ведь перед нами поэтический образ. Вся природа в художественном мышлении Есенина - это живое, всякий злак для него - живое существо. Не все можно объяснить логическими средствами в художественном образе (иначе не стоило бы писать стихи), но именно таков смысл "Песни о хлебе" - эстетически-программном стихотворении Есенина:
Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл - страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей. .............................. Перевязана в снопы солома, Каждый сноп лежит, как желтый труп. ................................... ...цепами маленькие кости Выбивают из худых телес.
Образ колоса - живого существа - с удивительной последовательностью и естественностью пронизывает всю "Песнь о хлебе", причем поэт, сохраняя чувство гармонии, стремится довести свой образ до полной конкретности :
Никому и в голову не встанет, Что солома - это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице - зубами В рот суют те кости обмолоть.
Наконец, заключительная строфа "Песни" говорит о том, что "грубость жнущих" сказывается на всех "вкушающих соломенное мясо", то есть хлеб:
И свистят по всей стране, как осень, Шарлатан, убийца и злодей... Оттого что режет серп колосья, Как под горло режут лебедей.
Буквалистское толкование образных средств привело бы, однако, к нелепости. "Песнь о хлебе"- это прославление добра, утверждение права всего живого на "милосердие, которое - более всего иного - заслужено человеком", по словам Горького.
В художественном мире Есенина, в его поэтической фантазии природа - "разумная плоть", человек готов с ней поменяться местами, слиться с ней. В этом отношении поэта ко всему живому находит свое выражение характерная именно для него "странная любовь" к родной земле, и природа обретает такой язык, какого раньше не знала русская поэзия. При всей иносказательности художественного мышления Есенина образы природы неразрывны для него и с восприятием новой действительности "отчалившей Руси". В конкретных исторических условиях классовой борьбы прямой смысл общественно-политической декларации не могла не приобрести знаменитая строфа из "Иорданской голубицы":
Небо - как колокол, Месяц - язык, Мать моя - родина, Я - большевик.
Но в дальнейшем присущая Есенину образность наполняется иным пафосом: любовь к природе оборачивается своего рода исключительностью в характерном для известного периода его творчества противопоставлении деревни городу.
Радость и гордость за свою родину, совершившую Октябрьскую революцию, вера в ее всемогущество, как мы помним, вылились у Есенина в призыв к "красному коню": "О, вывези наш шар земной на колею иную". Эту колею с величайшей трезвостью прокладывал Ленин в устроении отношений рабочего класса со средним крестьянством без всякого насилия в области хозяйственных отношений с ним. Той оптимистической перспективы, которую открывал перед крестьянином-тружеником Ленин, поэт не понял, однако он поверил, принял как неизбежное то индустриальное преобразование жизни среднего крестьянства, которое вызвало у него грустное признание: "Я последний поэт деревни..."
Владимир Ильич ставил задачу реалистически. "Среднее крестьянство в коммунистическом обществе только тогда будет на нашей стороне, когда мы облегчим и улучшим экономические условия его жизни. Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это - фантазия), то средний крестьянин сказал бы: "Я за коммунию" (т. е. за коммунизм). Но для того, чтобы это сделать, надо сначала победить международную буржуазию, надо заставить ее дать нам эти тракторы, или же надо поднять нашу производительность настолько, чтобы мы сами смогли их доставить".
Как это ни парадоксально, но, создавая свой "Сорокоуст", то есть, по сути дела, совершенно фантастическую панихиду по русской деревне, Есенин воспринял то, что Ленин называл еще "фантазией", как непосредственную реальность немедленного появления "железного гостя". Как известно, Уэллс восхищался Лениным и его уверенностью в победе планов коммунистического строительства, называл его "кремлевским мечтателем", но буржуазный писатель-фантаст был достаточно объективен в нарисованной им картине разрухи, связав ее прежде всего с изнурительной войной обанкротившейся империи и блокадой Советской России. В поэтическом сознании Есенина трудно найти соответствие этой реальности. "Конь стальной победил коня живого" - в этой фразе из есенинского письма, которое предшествовало созданию "Сорокоуста", нельзя не видеть выражение художественного мира поэта с его страстной любовью к "плоти" всего живого, но с неумением понять, что "железное" создано трудом человека для его счастья на земле, что это "железное" - живо, как детище его плоти и его духа.
Есенин говорит о себе: "Я последний поэт деревни" о своей обреченности как поэта "Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час!" Едва ли здесь был отзвук известного стихотворения Баратынского (Есенин его знал и любил) "Последний поэт". Тем не менее современник Октября уподобил свою судьбу тому "Последнему поэту", который, по Баратынскому, пытался дать отпор наступающему "железному веку" российского капитализма:
Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы.
Рассказывая в письме (от августа 1920 года), как он ехал из Тихорецкой в Пятигорск, Есенин особенно подробно рисует эпизод с маленьким жеребенком, который что есть силы скакал за поездом - "почему-то вздумал обогнать его, но под конец все-таки отстал и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни..." Едва ли требуется доказывать, как далеки были эти рассуждения поэта от реальной действительности и от понимания ленинского плана индустриальной помощи среднему крестьянству, как прямо противоречил этому плану комментарий поэта: "ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый..." И, однако, было бы неправильно отождествлять ошибочный смысл рассуждений поэта в письме с той изумительной по художественной силе картиной, в основу которой положен тот же эпизод:
Видели ли вы, Как бежит по степям, В туманах озерных кроясь, Железной ноздрей храпя, На лапах чугунных поезд? А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая к голове, Скачет красногривый жеребенок? Милый, милый, смешной дуралей, Но куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница?
Диалектика "живого" и "стального", их переход одного в другое были недоступны Есенину, как и тот план социалистического преобразования деревни для улучшения жизни среднего крестьянина, о котором в письме он говорил как о "нарочитом" социализме. Но картина "праздника отчаянных гонок", любовное и трогательное в образе жеребенка: "Милый, милый, смешной дуралей" - были торжеством утверждения живой жизни. Эти строки побеждали предвзятость ложной философии:
Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется.
Впоследствии, после возвращения из Америки, как мы знаем, Есенин отверг ложную философию "Сорокоуста" и со всей искренностью захотел, чтобы "железное" стало "живым" в его песне.
Но вот что важно и знаменательно: для многих современников, которые впервые воспринимали его "Сорокоуст", особенное впечатление оставляли его строки, прославлявшие и утверждавшие красоту "живого", а его "проклятья" по адресу "скверного гостя" звучали скорее как дидактика, столь несвойственная Есенину-художнику. И это отражало объективно, в "плоти" художественного образа, противоречие развития самой действительности, которое Есенину оставалось непонятным:
По-иному судьба на торгах перекрасила Наш разбуженный скрежетом плес, И за тысчи пудов конской кожи и мяса Покупают теперь паровоз.
"Разбуженный" прямо противоположен по смыслу "спящему" или "мертвому". С образом "разбуженного плеса", то есть оживленного судоходством широкого водного пространства той же родной Есенину Оки, невольно связывается положительное, радостное чувство, которое не уничтожается "скрежетом". Любопытно свидетельство И. Н. Розанова - большого знатока и страстного любителя всего нового в русской поэзии,- который в своих воспоминаниях о Есенине рассказывает о бурных спорах, вызванных первым чтением "Сорокоуста" на одном из традиционных в те годы вечеров поэтов в Политехническом музее под председательством Валерия Брюсова.
"А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы не декламировал "красногривого жеребенка". А потом в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык - "поэт уходящей деревни".
И. Н. Розанов справедливо говорит здесь о "ярлыке", потому что при всем обаянии образа "красногривого жеребенка", в котором Есенину "удалось дать образ необычайный и никому другому не удававшийся в такой степени по силе и широте обобщения" уходящего старого в жизни деревни, при всей грусти расставания с тем, что было в нем дорого, рядом торжествует жизнь разбуженного плеса.
Чувственная логика художественного образа сильнее дидактики. И разве не характерно, что, посвятив разбору своей работы над стихотворением "Сергею Есенину", как одному из "наиболее действенных", статью "Как делать стихи?", Маяковский спорит с Есениным по поводу "идеализированной деревенщины", из которой он "выбирался, конечно, с провалами", но о есенинских строках, посвященных "красногривому жеребенку", замечает, что они "не могли не нравиться".
Не могли не нравиться автору "Хорошего отношения к лошадям"... Невольно получается каламбур! Но, конечно, речь идет о поэтической специфике. О том, что в данном случае вкус Маяковского совпадал со смыслом есенинского образа, и о том, что оба поэта, столь непохожие стилистически, были едины в своей любви ко всему живому.
У Маяковского - напомним - в "Оде революции" моряки бросаются "на тонущий крейсер, туда, где забытый мяукал котенок", а в "Про это" очень глубокое признание:
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку -
Тут у булочной одна -
сплошная плешь -
Из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
К этому мог бы вполне "присоединиться" и Есенин. Однако если у автора "Про это" образы животного мира сравнительно редки, то у Есенина они - сквозные герои его творчества и, более того, средства метафорического мышления о мире, создания своеобразного мифа. В "Сорокоусте" "красногривый жеребенок" и явился воплощением мифа о противопоставлении деревни городу.
"...Новые задачи по отношению к этому классу требуют новой психологии",- говорил Ленин о среднем крестьянстве, предупреждая, что миллионы крестьян не сразу смогут понять выгодность для них новых отношений пролетарского города к деревне. Нет никакого сомнения, что в ряде стихотворений 1920-1922 годов, с их художественной вершиной в "Сорокоусте", Есенин отразил этот процесс. Он и в самом деле выбирался из своей "идеализации" старой деревни "с провалами". Но его комментарии к эпизоду с жеребенком и поездом в письме, адресованном конкретному адресату, нельзя отождествлять с тем стихотворением в "Сорокоусте", которое стало вершиной всего произведения.
Своим индивидуальным путем художника, со своими особенностями видения мира и фантазии шел Есенин к отражению новой действительности, к осознанию средствами поэзии тех новых отношений между людьми, которые обеспечивали торжество мира "живого", того гармонического, справедливого человеческого общества, в котором и "вторая природа", созданная трудом человека, становилась столь же любимой и прекрасной, так и та "первая", о которой он писал:
Вот оно, мое стадо рыжее! Кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут Следы человечьих ног. Русь моя, деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой.
В одной из статей, посвященных Есенину в его большую памятную дату, Станислав Куняев - талантливый поэт - сделал ряд тонких и верных наблюдений над его творчеством и пришел к некоторым значительным выводам. Однако с одним из них нельзя не поспорить. Совершенно правильно отмечает автор статьи: "Честность сердца - один из заветов Есенина". Но как же это согласовать с тем, что хочет доказать Станислав Куняев?
"...Когда Есенин пытался говорить нечто неестественное для него, то слова все равно выдавали его истинные чувства.
И, внимая моторному лаю, В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес.
Обратим внимание на то, что звуки моторов, которые он хочет полюбить, поэт называет "лаем", а скрип колес, от которого ему хочется отказаться,- "песней". Маленькая обмолвка, стоящая выше, чем иные стихотворные тома".
Что хочет этим сказать Куняев? Что "лай" - это неприятное, а "песня" - приятное? Что Есенин "проговаривается" именно о своих "истинных чувствах" по поводу того и другого? Но ведь именно об этом он прямо и говорит: "...теперь не желаю слушать песню тележных колес". И "лай" и "песня" - по-моему, никакие здесь не "обмолвки", а точные образы глубокой внутренней борьбы, преодоления внутренних противоречий.
И еще: "Он побывал в Америке, в Европе, но не написал об этом ни слова в стихах, так как не обладал сомнительным искусством быстрого перевоплощения".
Удивительно, что автор статьи, с такой любовью раскрывающий многие черты художественного мира Есенина, не заметил столь весомых "слов в стихах" монолога большевика Рассветова, посвященных Америке, в оставшейся незавершенной пьесе "Страна негодяев" :
Эти люди - гнилая рыба. Вся Америка - жадная пасть, Но Россия... вот это глыба... Лишь бы только Советская власть!..
Есенин совершенно законно восхищается в Америке дорогами - "каменными реками без пыли", беззвучием движения поездов - "без стона шпал", то есть тем же, что восхищало Маяковского в развитии техники,- "не грохот" (и, стало быть, не "моторный лай") воспевать, а "ставить глушители"...
"Внимая моторному лаю", Есенин сочувствовал ему всей душой. Не "обмолвку" допустил он в этом образе, а создал прекрасное, чистое стихотворение, верный собственному завету: "Я сердцем никогда не лгу"... Мучительно переживал Есенин то состояние, когда "ум с сердцем не в ладу", и, конечно, Станислав Куняев прав, говоря, что он "не обладал сомнительным искусством быстрого перевоплощения". Однако Есенин ушел слишком рано, и слишком велик был его талант, чтобы не видеть перспективы развития его в ту сторону, куда звали его народ, партия Ленина. Слишком значителен был его поворот в эту сторону, о чем с такой силой свидетельствует его поэтический взлет в последнем периоде творчества.
Никогда не отходил Есенин от преданности родной земле "со всеми устоями на советской платформе". Он не хотел и не мог расстаться с поэзией "золотой бревенчатой избы" - лучшего в живых традициях прошлого, противопоставляя их тем, кто цеплялся за отсталость старой "Руси". Александру Ширяевцу, близкому ему по деревенским темам, он писал еще в 1920 году: "Брось ты петь эту стилизационную "клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет". Едва ли можно выразить сильнее порыв к новому!
Впоследствии в образе "Руси советской" Есенин стремился соединить "живое" и "железное". Продолжая традиции и обновляясь по зову жизни, "настоящей жизни нашей Руси", должна была измениться и эстетика, найдены и новые изобразительные средства. Есенин мечтал о том, чтобы стать близким делам новых людей в своем творчестве. В "Письме деду" он полемизировал с самим собой, называя паровоз "стальной кобылой" и тем самым стремясь приблизить его к кругу тех поэтических представлений, которые были ему сродни с детства:
Чугунный рот ее Привык к огню, И дым над ней, как грива,- Черен, густ и четок. Такую б гриву Нашему коню,- То сколько б вышло Разных швабр и щеток!
Трогателен здесь юмор, с помощью которого поэт пытался переломить свои эстетические пристрастия и опоэтизировать мир "индустрийной мощи*. Но на этом пути он только сделал первый шаг...
Если говорить о крупных явлениях, определяющих эпоху, то, конечно, Маяковский ближе всех своих современников-поэтов подошел к эстетическому решению задачи отражения единства "живого" и "железного" в жизнестроении социализма. Поэт в своей поэтизации индустриального мира не чувствовал себя одиноким. С особым уважением он относился к Алексею Гастеву - автору "Поэзии рабочего удара"; любил и ценил Василия Казина, выпустившего в 1922 году свой первый сборник "Рабочий май". Николай Асеев посвятил Гастеву восторженное стихотворение, радуясь, что живет в одно время с "Овидием горняков, шахтеров, слесарей", и заявляя о своем единочувствии с ним; незадолго перед тем Асеев выступил со своего рода лирической декларацией - стихотворением "Стальной соловей".
Была здесь и некая крайность, противоположная раннему Есенину,- подчинение "живого" - "железному". Жизнь, партия ставили перед всеми трудящимися задачу промышленного возрождения страны. "В склепах-фабриках железо жрала ржа",- с болью писал Маяковский. На этом фоне можно было понять протест Асеева против бездумной "пейзажной" лирики, заполонившей страницы журналов. И все же была здесь опасность, которая в свое время получила имя: " машиномоляйство ".
А. В. Луначарский в письме к Н. Асееву признавался, что для него, по-андерсеновски, живой соловей лучше "стального". Критик выделял в сборнике поэта те стихи Асеева, где его "еще не ожелезили", и желал поэту в дальнейшем быть "еще современнее и вместе с тем поэтичнее, без всякой боязни поэтичности и дальше от всякой механизации..." И в самом деле, у Асеева в его несколько наивном и прямолинейном "обожествлении" техники Луначарский правильно уловил отрицательную сторону. Но у Асеева, который шел за Маяковским, была здесь и своя диалектика требований самой жизни.
В поэме "Рабочим Курска, добывшим первую руду..." Маяковский создал великолепный поэтический образ только что открытой в те годы для промышленного использования знаменитой Курской аномалии и тех "сегодняшних рыцарей" - рабочих, которые пошли на нее в атаку. Замечательно писал Маяковский о живых людях, воплотивших в своей работе любовь, соединивших в своей жизни работу и любовь:
Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он -
сегодняшний рыцарь!
Он так же мечтает,
он так же любит.
Создавая свой "временный памятник" "Рабочим Курска, добывшим первую руду...", Маяковский находил реалистическое и вместе с тем романтическое решение задачи в средствах своей поэтики, где вполне прозаические "первые куски" руды оказывались как бы первой, завоеванной упорным трудом "земной любовью" :
И когда
казалось -
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Маяковский чувствовал одухотворенность техники, служащей делу коммунизма, и это свое понимание эстетически претворил в единстве образов "пришедшего в землю врыться" и "первой руды", живого и железного. Однако он полемически (как вслед за ним и Асеев) и в какой-то мере трагически наступал "на горло собственной песне", отвергнув эстетику природы, - вот его признание дикой красоты горного пейзажа близкого ему с детских лет Кавказа:
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую -
стыну на грани я.
Овладевает
мною
гипноз
воды
и пены играние...
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в "Красных нивах",
а здесь,
И не построчно,
а даром
реветь,
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Если Маяковский "отвернулся" от природы, как от "неусовершенствованной вещи", если для Есенина "солома" - это та же плоть", которой, как и всему "живому", якобы угрожает "железный гость", то на новом историческом этапе для Довженко, автора "Земли", "Мичурина", "Поэмы о море", природа - любимая мать. Она дает человеку множество своих даров, но это только совсем малая часть тех несметных сокровищ, которыми богата мать-земля и которых хватило бы с избытком для того, чтобы всех накормить, если ею правильно пользоваться в разумно устроенном человеческом обществе. Довженко - восторженный певец плодов земли, но и для него природа - "неусовершенствованная вещь". Лишь человек, труженик-творец, может на благо всем людям своими руками и могучей техникой раскрепостить всю мощь жизненных соков земли.
В истории советской литературы Александр Довженко был одним из первых художников, гармонически сочетавших в своем творчестве образы любви к природе с восхищением индустриальным миром, образы "живого" и "железного" как тех предпосылок, которые, по слову Горького, утверждают в социалистическом реализме бытие как деяние. В рассказе "Бульдозер и стихи", написанном в период поездок автора "Земли" на Украину, на строительство Каховской ГЭС для подготовки сценария "Поэмы о море", Довженко признавался: "Я понес в себе новую гармонию и себя в ней, как преобразователя природы, и стихи, стало быть, сами начали слагаться во мне от избытка сил. Бульдозер пробудил мой ум и облагородил эстетику".
Эстетика одухотворенной техники! Это эстетика борьбы сил нового против старого мира. Когда мотор первого трактора - вестника коллективизации - заглох по вине неумелого человека, то раздавшийся вслед за тем рокот его - этот "моторный лай" - прозвучал для Василя Трубенко из довженковской "Земли" лучшей музыкой, торжествующей песней победы социализма в советской деревне.
"Я принадлежу к лагерю поэтическому", - объявлял Александр Довженко, и это справедливо по отношению к его художественному мышлению в целом, единому в образах литературно-сценарных и экранных, 'словесных и изобразительных.
Если Есенин, как сказано, - это поэт Руси в ее исторической судьбе и в ее предназначении Руси советской, то Довженко - это поэт Украины в огне борьбы за свое советское возрождение вместе с Русью советской, вместе с народами-братьями. "Певцом цветущей вольной земли" назвал Александра Довженко Н. Тихонов. С необыкновенной силой изобразил автор "Земли" красоту природы родной Украины и жизненную силу новых людей в их первой встрече с желанным "железным гостем", без помощи которого не могло осуществиться великое колхозное преобразование всей нашей Родины.
Это художественное решение пришло к Довженко на новом историческом этапе жизни нашей страны, в эпоху пятилеток, когда альтернативность в постановке самой задачи изображения - техника или природа - была снята всем ходом развития советского общества. Но, конечно, главную роль сыграла здесь самобытность замечательного художника, дарование которого было созвучно новаторству любимого им Маяковского и по-своему дополнялось живым чувством истории родного народа. Художник глубоко национальный, Довженко имел право сказать о своем искусстве: " Я принадлежу человечеству как художник, и ему я служу. Искусство мое - искусство всемирное. Буду работать в нем, сколько достанет сил и таланта. Буду, хочу жить добротой и любовью к человечеству, к самому дорогому и великому, что создала жизнь, - к человеку, к Ленину".
Довженко говорил о будущем, как романтик и реалист. Это был художник-мечтатель, наделенный трезвостью сатирика, бичующего недостатки настоящего, и совершенно непреклонной верой в победу лучшего в человеке, в победу коммунизма. В характерном для него художественном опережении времени он любил обращаться к фантастике. Свою "Землю" он создавал, когда колхозы только возникали. Довженко-художник влюбился в первый трактор, появившийся на родной украинской земле, которую он любил с детства больше всего на свете. И детская любовь претворилась в мудрость, когда он как художник встретил на ней машину - этого веселого могильщика лоскутных полей, которому предстояло возродить их в единой колхозной ниве. Исходный эпизод "Земли", где при громадном стечении народа прибывает со станции своим ходом "совершенно новый, напористый, веселый трактор", управляемый Василем - сельским активистом, рабкором, - решен художником совершенно реалистически, в бытовой сцене, полной лиризма и юмора. Но, вероятно, это видение будущего в настоящем и умение отразить настоящее со всей правдивостью его деталей не пришло бы к художнику без его любви к волшебству неожиданностей жизни, которое с такой прелестью сказалось в его автобиографической повести о детстве - "Зачарованной Десне".
Здесь истоки тех образов, ассоциаций, деталей быта и картин чудесной Украины, которые так хорошо знакомы нам по фильмам Довженко, по той же "Земле". " Зачарованная Десна" - это эпопея-хроника открытия мира крестьянским хлопцем: от уяснения себе ощущений "приятного" и "неприятного", от познания положения человека в мире по фантастической лубочной картинке Страшного суда, которую мать выменяла на ярмарке за курицу, до трезвого постижения суда людского, где впервые мальчик знакомится с трагическими и смешными обманами жизни. Если детские впечатления являются определяющими для формирования эстетического мира художника, то "зачарованность мира" следует признать одним из истоков довженковской эстетики.
Вот мир живой природы в "Зачарованной Десне":
"Диких зверей тоже было мало - еж, заяц, хорек. Волки совсем перевелись, и даже само слово "волк" употреблялось вроде дедова ругательства - "а волк бы тебя съел".
Водились львы, но тоже очень редко. Один лишь раз по берегу Десны прошел было лев, да и то, кому ни рассказываю, никто не верит. А мы с отцом поставили переметы в Десне и плывем к куреню в душегубке. Вода тихая, небо звездное, и так мне хорошо плыть за водой, так легко, словно я не плыву, а лечу в синем просторе. Смотрю в воду - месяц в воде смеется. "Плеснись, рыба", - думаю - плещется. Гляну на небо: "Звезда, покатись" - катится. Пахнут травы над водой. Я к травам: "Подайте голос, травы" - кричат перепелки. Смотрю на чарующий залитый серебряным светом берег: "Явись мне, лев, на берегу" - появляется лев. Голова громадная, всклокоченная грива и длинный, с крупной кистью хвост.
Медленно идет звериный царь вдоль пляжа над самой водой.
- Тату, гляньте, лев, - кричу я батьку, как очарованный.
- Ну где там лев. То ведь..."
Но, как выясняется в дальнейшем, то был самый настоящий лев, выпрыгнувший из клетки передвижного зверинца, когда случилось крушение поезда под Бахмачем и клетка поломалась... Мотивировка явления льва на берегу Десны, как видим, вполне реалистическая, но оттого оно ничуть не менее волшебно, чем разговор поэта с рыбой, звездой и травами, откликающимися на все его мечты. Это вселенная Довженко, с его чувством родства с природой, его художественное мышление, отражение действительной жизни в его стилевой манере.
Есть в "Зачарованной Десне" сцена охоты, в которой у незадачливого охотника Тихона Бобыря в самый решающий момент вдруг выяснилось отсутствие в ружье курка. Автор объясняет: ружье "было такое старинное, что его курок охотник предпочитал всегда носить в кармане и одевал его, куда надо, обычно перед самым выстрелом". Это воспоминание детства, как мне кажется, могло послужить толчком для возникновения в сценарии "Земля" одной яркой драматической детали "поведения" трактора, встреченного сомнениями, недоверием, прямой враждебностью разнородной толпы, в сцене его первого появления на украинском селе. В этой картине трактор - живое существо и, можно было бы сказать, самое живое, поскольку от того, выдержит ли он технический экзамен, зависят судьба людей, их мечты и развязка борьбы многих уходящих в историческую даль поколений тружеников земли за свои права. "И вдруг - надо же было случиться - "революционер" запыхтел, захлопал, пустил из радиатора пар и остановился..." В этом эпизоде, где Василь торжественно сидел у баранки трактора, а Иван Хакало, в силу "убогого своего техминимума", отвинтил пробку от радиатора, отчего и выкипела вода и вот-вот могла произойти авария,- "железное" буквально слилось с живым. Острый реалистический драматизм этой сцены насыщен жестоким юмором.
Машина - это люди, создавшие ее и управляющие ею, и не просто люди, а та новая общественная система, которая проходит здесь свое испытание.
"Вынув из кармана пробку радиатора и повертев застенчиво в руках, он несмело протянул ее Василию:
- Я ведь, Василь... ты не горячись, послушай, - я думал, к лучшему: жара, пускай, думаю, вода прохлаждается.
- Ну что ты говоришь, прямо комедия, ей-богу! - рассвирепел Чуприна, отчего количество веснушек на его лице сразу утроилось.- Вот поставлю на бюро эту пробку, и выгоним тебя к чертям из комсомола на полгода. Разве можно с таким дураком строить социализм!"
Но вот злополучная пробка поставлена на свое место. Где же взять воды? В свое время, при первых демонстрациях картины, вызвало яростные споры смелое решение режиссером выхода из "безвыходной" ситуации, но для эстетики Довженко важно и бесспорно то романтическое обоснование, которое он дает своим исканиям:
"Не будем вникать в бытовые подробности фактов, ибо сами факты всегда выглядят так или иначе, в зависимости от того, куда они нацелены. Когда на фронте решается судьба победы, а с ней и судьба народа, когда кожухи пулеметов накаляются докрасна и нет воды, а враг наседает, не важно, откуда берут пулеметчики для пулеметов воду, каждая секунда их драгоценна, и каждое телодвижение прекрасно. Наша машина!"
В центре довженковской "Земли" - борьба за счастье человека, классовая борьба. Трудный день героя закончился торжеством - трактор сделал свое дело.
Полна красоты сцена свидания Василя поздним вечером с Наталкой, в душе которой шевелится предчувствие недоброго. Василь не хочет прислушаться к ней, он счастлив, счастлив, повторяет не раз автор сценария. Василь возвращается один, "идет по дороге один среди звезд", по выражению Довженко. И вот волшебство поэтического претворения того, что происходит в душе героя: в настоящем - праздник будущего, навстречу которому несется душа человека, ноги сами несут его, он не чувствует под собой земли - не идет, а танцует, как принято говорить,- тело, кажется, само отрывается от земли.
И совершенно органически рождается в поэтике Довженко реализация метафоры. "А не потанцевать ли мне? - подумал Василь, ощущая в теле необычайную легкость и радость движения..." С юмором и высоким пафосом рисует художник, как творился этот танец, "как будто никогда, сколько мир существует и будет пребывать, не совершался здесь и не совершится ни один недобрый поступок". Этой картины танца героя в спящем селе, этой фантастической пластики лихого гопака "среди звезд" не оторвать у Довженко от образа Василя, распахивающего на тракторе прадедовские межи. "Выстрел! И... нет Василя. Упал он прямо с танца на дорогу, в смерть". Волшебство "тайной жизни" души претворяется у Довженко - без всякого перехода в бытовую реальность - в страшную гибель прекрасного человека. И опять же можно сказать, что таинство одинокого танца Василя столь же реально, как и та сцена, где он пробирает "дурака" Хакало, вытащившего пробку из радиатора на тракторе.
Но разве трактор, вместе с которым Василь пережил столько тревог и радостей, разве этот первенец колхозных полей не самый близкий друг, разве может прийти в голову отцу Василя Опанасу Трубенко назвать его по-есенински, пусть с самым нежным юмором, "стальной кобылой"?
"Когда же Василь с радостной улыбкой прошелся трактором по родной прадедовской меже, приветливо кивая батьку и что-то весело крича ему на быстром ходу, Опанас остановился и долго смотрел вслед своему сыну.
И показался он сам себе впервые в жизни маленьким и немощным, прожившим, может быть, очень жалкую, убогую жизнь, совсем не ту, что было надо.
И всколыхнулось в нем глубокое желание двигаться куда-то за сыном, догонять невозвратное: "Сколько же лет ползал я с конями по этой нивке в поте лица своего".
Трагедия селькора Василя Трубенко, убитого кулацкой пулей в день появления на селе первого трактора, - это подлинно оптимистическая трагедия. Новый человек рождается в борьбе, отдавая самое дорогое, что есть у каждого, - свою жизнь. Для того чтобы оценить принципиальное новаторство Довженко в эстетических отношениях его искусства к новой действительности, в тех отношениях, где, как в его "Земле", органически слился восторг перед биологическим таинством природы с любовью к созданию рук человека-творца, следует напомнить один эпизод из более поздней его "Повести пламенных лет". Как ни полыхает в ней пламень великой битвы за Родину, но образ Ивана Орлюка - солдата - становится до конца близким и понятным только через Ивана Орлюка - сеятеля, творца плодов земных. В "Повести пламенных лет" Иван Орлюк держит ответ перед военным трибуналом за то, что самовольно расстрелял при отходе наших войск с Украины двух своих однополчан, пытавшихся дезертировать. Суд происходит в бомбоубежище во время бешеной фашистской бомбежки. Самим соблюдением во всей строгости процессуальных форм судопроизводства в столь необычной обстановке как бы подчеркивается естественность, обычность мужества всех участников этой сцены и нерушимость их веры в незыблемость устоев Советского государства.
Однако вся сцена и поведение и судей и подсудимого повернуты у Довженко так, что в эстетическом впечатлении на первый план выступает не то, в чем обвиняется Иван Орлюк, а нечто другое, как будто бы не вяжущееся с той обстановкой, в которой происходит суд. Военный юрист обращается к Орлюку:
"- Так. Продолжайте. Можете продолжать биографию, только покороче.
- Да! - Вдруг как-то встрепенулся Орлюк и улыбнулся одними губами. В глазах оставалось страдание. - Так вот я и говорю, что, когда мы убирали сенокос, мы ходили вокруг стогов по семенам. Все свое детство я ходил по семенам.
Они были у нас везде, куда ни повернись: в горшках, в узелочках, на жердях в сенях, в сарае, под крышей, в бочках, в мешках, в мешочках.
Я часто спал на семенах - во ржи, в просе, в ячмене и горохе на печке. Я люблю запах семян. Я в семенах вырос. И мать меня родила тоже среди семян, в жниве под копной.
- Довольно.
- Но это же очень важно. Я сейчас объясню.
- Вы лучше сразу расскажите о своем преступлении, - сказал второй военюрист. - Как вы убили двух своих товарищей? "
И если с точки зрения судебного дела это главное, то с точки зрения защиты жизни тема семян в эпизоде суда - самая важная. Когда фашисты прорвали фронт и наши войска покидали Украину, комсомолец Иван Орлюк вместе с двумя товарищами из своей части дали
клятву отстоять родную землю, в знак чего каждый из них взял по горстке земли в узелок. Когда же на другую ночь Орлюк заметил, что те бросили свои узелки и спрятались, чтобы фронт перекатился через них, он схватил автомат и расстрелял трусов и предателей. Военный трибунал судит Орлюка за самочинные действия, ему угрожает расстрел. А он с какой-то блаженной улыбкой при воспоминании о своей сладостной мечте агронома - прославить невиданным урожаем свою землю, радостно встречает приговор трибунала - в штрафную роту.
"- А про семена вы очень хорошо говорили, - сказал Величко, следя за уходящими вражескими бомбардировщиками. - И я верю, что рано или поздно, но вы, Орлюк, еще будете сеять над Днепром эти семена... Запомните мои слова.
- Так вы за семена не обиделись?.."
Это и есть самое важное в сцене суда, то праздничное, ради чего живет герой Довженко: труд, как творчество, социализм, то есть жизнь в цвету, по природе человека, в нераздельном единстве, в постоянном общении с природой, со всем, что растет, дышит, живет. Семена у Довженко, плоды и цветы, касавшиеся на похоронах чистого лица Василя, подобно соломе у Есенина - та же плоть.
И совсем по-есенински звучит образ у Довженко: "В дворах и кошарах лежали волы, подняв голову и держа месяц на неподвижных рогах". У Есенина - метафора усилена, месяц "оживотнен":
Месяц рогом облако бодает, В голубой купается пыли...
По-своему в восприятии украинского и русского художников предстает то, что роднит их - замечательных певцов живого, стихийно растущего. Но в своей "Земле" Довженко раздвинул эстетическое восприятие живого, органически включив в него и машину, работающую на социализм, первый трактор, появление которого в борьбе за колхозное преобразование села становится узловым пунктом развертывания трагедии, оселком для испытания характеров. Патетика неразрывно слита у Довженко с юмором: в этом аспекте "Земля" выступает как произведение, глубоко национальное, которое - это верно заметил Ю. Барабаш в своей книге о Довженко - звучит, как "украинская дума с ее эпической широтой и раздумчивостью".
В "Поэме о море" развернулось то, что уже определилось в "Земле". Только теперь Довженко как бы вступает в полемику с самим собой, для него поэзия "слияния с природой" кажется теперь поэзией "пассивного подчинения".
Новая красота природы, преобразованной руками человека, воспета Довженко.
"Веселые" - это для Довженко новый традиционный эпитет, когда он говорит о машинах, преобразующих землю, помогающих укреплению на ней строя социализма.
"И вот стоит уже красавица - светлая плотина. Так и зовут ее красавицей и глядят на нее с любовью, нежностью, как на возлюбленную.
Удивительные вещи творятся на великих реках!"
Едва ли нужно говорить, что эстетика "живого" и "железного" в их единстве не исчерпывает проблем художественного мышления в искусстве социалистического реализма. Образ нового человека формируется всей жизнью, всеми сторонами, конфликтами жизни - и общественными и личными. Не засушить его, не "ожелезить..." Энгельс говорил о "примирении человечества с природой и с самим собой". Это путь овладения силами природы с любовью, с бережностью к ней. Преодолевая сопротивление косной материи, человек разгадывает, раскрывает всю ее мощь, которая без него никогда бы не смогла проявиться. Примирение человечества с самим собой? Предпосылка для этого - конечно, победа социализма во всемирном масштабе, добываемая в сложной диалектике классовой борьбы под знаком сосуществования двух противоположных общественных систем. Но и тогда, когда с классовой борьбой будет покончено, когда "во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть", человек в своих поисках истины; счастья для всех людей не успокоится на достигнутом.
Это наша большевистская формула останется в полной силе и действенности. Примирение с самим собой может быть только временным - таков закон творчества. Противоречия жизни свободного человека в обществе свободных людей, перестав быть антагонистическими, ни в малой мере не утратят своей ведущей силы, своей императивности...
Отразить в искусстве диалектику этого процесса в его сегодняшних формах - это значит возвеличить героику наших людей - тружеников и творцов, стремящихся, по словам Горького, обработать всю землю как "прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью".
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"