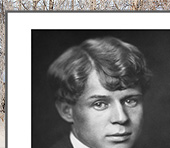


Неизвестные письма Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой
Предисловие Д. А. Коновалова.
Подготовка текста и примечания В. В. Базанова
В 1965 году жительница г. Рязани Мария Дмитриевна Ильина передала в Рязанский областной краеведческий музей две рукописные тетради с ранее неизвестными стихами С. Есенина. Через два года эти стихи были опубликованы в сборнике "Есенин и русская поэзия".
Конечно, я, как краевед, поспешил познакомиться с Марией Дмитриевной и стал часто бывать у старой учительницы-пенсионерки. Разговор наш начался с ее рассказа о знакомстве с Сергеем Есениным в селе Константинове.
- Летом 1912 года,- рассказывала она,- я со старшим братом Сергеем, только что окончившим курс обучения в Рязанской духовной семинарии, приехала в свое родное село Константинове к дальнему родственнику, Ивану Яковлевичу Смирнову.
8 июля (по старому стилю) в селе был престольный праздник. В тот день, вечером, мы прибыли к Ивану Яковлевичу - престарелому вдовому священнику. Его семья состояла из трех человек: он сам, его незамужняя дочь Капитолина (ее звали тетей Капой) и воспитанник-сирота Клавдий Воронцов, юноша лет шестнадцати. Иван Яковлевич славился радушием и простотой. Под гостеприимным кровом собирались люди разных возрастов и профессий, больше молодежь. И всех ласково встречала, занимала и веселила тетя Капа - жизнерадостная, неистощимая на выдумки, замечательная рассказчица веселых историй. Около нее всегда царило оживление и слышался смех.
Гости занимали весь дом, сени, кухню, лужайку перед домом, сад, беседку, амбар - и сами обслуживали друг друга, угощаясь чем придется. Приезжавшие располагались на ночлег в амбаре и даже в саду, где им что-нибудь стелили на траве под яблонями. Гости знакомились друг с другом, беседовали, танцевали под гармонь, пели, играли в разные игры и т. д. Всем было весело и интересно.
На другой день, утром 9 июля, на лужайке перед домом молодежь организовала танцы и игры. Я как-то не могла освоиться с новыми людьми и больше наблюдала за ними. Но вот у плетня я увидела молодого человека лет шестнадцати-семнадцати; он стоял с учительницей из села Солотчи Серафимой Алексеевной Сардановской, которая была года на четыре старше его. Девушку эту я знала, хотя не была с нею знакома. Я заинтересовалась молодым человеком, как-то сразу привлекшим мое внимание. Был он среднего роста, худощав, блондин; волосы причесаны по-ученически гладко, с маленьким хохолком. Одет он был скромно, по крестьянской моде - в черный казинетовый пиджачок и такие же брюки, заправленные в сапоги. Он был бледен и серьезен, в его лице чувствовалась застенчивость и вместе с тем - гордость. Эта пара разговаривала между собой, не обращая внимания на окружающих. Позже, в тот же вечер, я узнала, что молодой человек - местный крестьянин, начинающий поэт Сергей Есенин. Во время беседы он часто доставал из боковых карманов тетрадь и записную книжку, что-то читал и делал пометки. Видимо, Сардановская давала ему какие-то советы.
Мой брат познакомился с Есениным накануне.
К вечеру 9 июля Есенин с моим братом Сергеем (а с ними - и я) выехали из села Константинова в Рязань. До станции Дивово мы добирались на лошади, запряженной в тарантас, а до Рязани ехали поездом. В вагоне Есенин и мой брат всю дорогу оживленно разговаривали.
В Рязани Есенин ночевал две ночи у нас в школе, на Болдаревской улице (теперь улица Некрасова, дом 15). Наш отец был учителем, и семья жила во дворе школы во флигеле. Брат с Есениным ночевали в классной комнате на полу, на тюфяках. Всю ночь до утра они провели в разговорах о литературе (об этом я узнала позже от брата), а днем отправились бродить по городу. Они ходили в типографию, которая находилась около Успенского собора, в редакцию местной газеты, в библиотеку. Целью приезда Есенина в Рязань, как мне стало известно впоследствии, была попытка издать свои стихи, но задуманное, вероятно, не увенчалось успехом.
Из Рязани Есенин уехал к своему отцу в Москву. Он оставил на память моему брату две тетради своих стихов, а на следующий день брат отдал их мне, зная, что я увлекаюсь поэзией. Эти тетради со стихами Сергея Есенина хранились у меня на квартире. С тех пор прошло много времени; я думала, что они затерялись. Но в 1965 году я нашла их среди тетрадей своих учеников и передала в Рязанский областной краеведческий музей.
С Есениным мне встречаться больше не пришлось.
Во время рассказа Марии Дмитриевны я вспомнил, что в одном из писем к близкому другу по Спас-Клепиковской учительской школе Грише Панфилову Есенин сообщал о своем знакомстве с М. П. Бальзамовой. Возникла мысль: кто и откуда эта Бальзамова? Не уроженка ли Рязанского края (ведь Есенин встречался с ней в селе Константинове)? Произошло это, по моему предположению, в то самое время, когда в доме И. Я. Смирнова гостили Мария Дмитриевна и ее брат Сергей. И я спросил, не видела ли она на празднике в селе Константинове Анюту Сардановскую и ее подругу Марию Бальзамову?
- Тогда среди гостей я видела Анюту Сардановскую, которую (так же, как и ее сестру Симу) знала в лицо, но с которой не была знакома. Подруг Анюты я не знала. Прошло больше полувека. Нет в живых ни Ивана Яковлевича, ни тети Капы, ни Клавдия Воронцова, ни Анюты Сардановской, ни моего брата Сергея... А жива ли Серафима Алексеевна Сардановская, мне неизвестно...
Затем, подумав, Мария Дмитриевна припомнила давний разговор со своей дальней родственницей Верой Игнатьевной Ильиной, которая говорила, что ее двоюродная сестра была знакома с Есениным. В. И. Ильина живет в Рязани и работает преподавателем Рязанского педагогического института. И надо же такому случиться: двоюродная сестра Веры Игнатьевны оказалась той самой Бальзамовой, о которой так хотелось что-нибудь узнать! Но... она уже умерла.
Рассказ Веры Игнатьевны начался с этого печального сообщения, и я продолжал слушать ее, огорченный смертью человека, с которым мне уже не встретиться.
- Мария Парменовна Бальзамова,- слышал я торопливый и взволнованный голос,- моя двоюродная сестра по матери (моя мать и ее мать, Лидия Терентьевна, были родными сестрами). Я хорошо знала Машу. В конце войны была у нее в Москве. Она говорила мне, что знала Сергея Есенина, переписывалась с ним и у нее остались его письма. Я тогда торопилась в Рязань, и Маша обещала показать письма Есенина в следующую встречу. Но встретиться мне с ней так и не пришлось... Умерла она в 1950 году.
- Не говорила ли Вам Мария Парменовна, где и при каких обстоятельствах она познакомилась с Есениным, сколько времени продолжалась их переписка? - стал я спрашивать Веру Игнатьевну.
- Ничего об этом я от Маши не слыхала и знаю лишь из письма Есенина Грише Панфилову, что впервые они встретились в селе Константинове летом 1912 года. Переписка же их, думаю, была длительной или просто слишком часто они писали друг другу: Маша говорила, что у нее сохранилось около сотни есенинских писем. В Москве живет ее единственный сын Пар-мен Сергеевич Бровкин. Адрес его я затеряла, но можно навести справки. Поезжайте, голубчик, в Москву, ищите письма Есенина, ведь это так важно!
Я поехал в Москву (это было летом 1967 года), узнал адрес П. С. Бровкина и встретился с ним.
Он рассказал, что Мария Парменовна родилась в 1896 году в селе Дединове бывшей Рязанской губернии, в семье дьякона Пармена Степановича Бальзамова. В 1910 году семья переехала в Рязань, где Мария Парменовна окончила епархиальное женское училище, после чего работала в разных селах Рязанской губернии. В 1921 году она вышла замуж за жителя г. Рязани Сергея Николаевича Бровкина, инженера по специальности, и затем переехала с ним в Москву. Мария Парменовна работала в Москве сначала в библиотеке, а потом - на дезинфекционной станции. В этом же учреждении теперь работает и он - Пармен Сергеевич, 1925 года рождения, имеющий медицинское образование. Через два года после смерти Марии Парменовны (1950 г.) умер и ее муж.
- От своей матери я знал, что она в молодости дружила с Сергеем Есениным и переписывалась с ним,- добавил Пармен Сергеевич,- а писем есенинских осталось мало...
Он раскрыл книжный шкаф, порылся в книгах и вручил мне одно за другим больше десятка писем.
- Вот все, что чудом уцелело, прошло через войны и всякие переселения. Пропало много книг и бумаг, а с ними исчезли и другие письма Есенина. Их было значительно больше. Помню одно стихотворение на отдельном листе бумаги. Оно тоже затерялось. А старая фотокарточка сохранилась. На ней моя мать снята вместе с Анютой Сардановской. Этот фотоснимок сделан примерно в 1912 или 1913 году.
Мы перебирали на столе письма в маленьких конвертах, несколько писем было без конвертов. В тот раз нашлось двенадцать писем и одна почтовая открытка, несколько позже Пармен Сергеевич передал мне еще три письма. Письма оказались недатированными и, как видно было по их состоянию (потемнение бумаги и потертость), может быть, часто вынимались из конвертов; так что установить время их написания представлялось делом будущего. Но зато приятно было видеть четкий разборчивый почерк поэта, писавшего хорошо сохранившимися чернилами черного цвета.
Пармен Сергеевич познакомил меня со своим дядей - братом Марии Парменовны, Леонидом Парменовичем Бальзамовым, который, рассматривая переданную мне старую фотокарточку, пояснил:
- Я запомнил Анюту Сардановскую именно в таком виде и в таком возрасте. Она часто бывала у нас в доме. Умерла Анюта совсем молодой в начале двадцатых годов. Между прочим, я слышал как-то от своей матери, что к Маше в село Мошены два или три раза приезжал Есенин и участвовал в проведении вечеров, которые устраивались там в школе.
Текст писем привел меня к мысли о необходимости продолжать розыск других материалов и сведений о Сергее Есенине. Город Рязань, село Мошены и село Калитинка - вот куда адресовал Есенин свои письма к Бальзамовой. Следовало продолжать поиски в этих местах. Я начал с Рязани.
В письмах Есенина неоднократно встречается имя "Сима", то есть Серафима Алексеевна Сардановская. Вскоре я выяснил, что С. А. Сардановская, 1891 года рождения, проживает в Рязани. В квартире Николая Николаевича Жукова, сына Серафимы Алексеевны, меня провели к ней в отдельную комнату. Старенькая, больная, она лежала в постели. Я рассказал ей о цели своего посещения и передал старинную фотографию. Серафима Алексеевна сразу узнала свою сестру Анюту и Машу Бальзамову. Глаза ее наполнились слезами.
- Далекое прошлое, юность мне помнится лучше, чем близкое,- заговорила она.- Я родилась в селе Мошены, но мы там жили мало, потому что родители переехали с семьей в село Дединово, где мать работала учительницей, а потом в той же школе учила детей моя сестра Анюта, которая и похоронена в Дединове. Там, в Дединове, Анюта с детства дружила с Машей Бальзамовой, вместе они учились в епархиальном училище в Рязани.
С 1907 года я почти половину жизни учительствовала в Солотче, под Рязанью. Наш дедушка, священник Иван Яковлевич Смирнов, жил в селе Константинове, в доме около церкви. У дедушки я и познакомилась с Сергеем Есениным, который почти каждое утро прибегал к нам. Был он в особенной дружбе с Анютой, дружил и со мной. Во время обучения в Спас-Клепиковской учительской школе и после ее окончания он большую часть времени проводил с нами и часто читал стихи - Лермонтова, Пушкина, да и свои.
Мы любили ходить на кладбище. Там я садилась на камень, а Сережа стоял и читал стихи. Он поражал меня своей удивительной памятью: стихов знал очень много, читал наизусть целые поэмы. Помню, прочитал он мне однажды всю поэму Лермонтова "Мцыри". В доме дедушки, как мне известно, стихов он не читал, потому что там бывало много народу, а Сережа был застенчив и скромен. К Анюте в Константиново приезжала и Маша Бальзамова, и я знала о знакомстве Есенина с ней. Когда Анюта и Маша окончили епархиальное училище, они приезжали ко мне в Солотчу, жили в моей квартире при школе по нескольку дней. В то время (это было в 1912-1913 годах) к нам в школу в Солотчу приезжал и Есенин.
- Так он бывал в Солотче?- не удержался я от вопроса.
- Раза четыре был. Ночевал он в школе. Иногда мы четверо - Есенин, Анюта, Маша и я - гуляли по Солотче, посещали Солотчинский монастырь, ходили в лес, спускались к старице... Сережа очень любил природу. Он был ласковым, доброй души юношей. Приезжал к нам и наш брат Николай со своим другом Сергеем Брежневым из села Кузьминского. Время проходило шумно и весело. Вспоминаю, любил еще Сережа Есенин народные песни и частушки и знал их множество. Да, вот еще что: вместе со мной при школе жила Анастасия Алексеевна Волкова, работавшая сторожем. Она и сейчас живет около Солотчи, в деревне Давыдово. Может быть, и она что вспомнит о том далеком времени...
- Ну что я, старая, Вам расскажу,- смутилась в разговоре со мной Анастасия Алексеевна.- С 1910 по 1918 год жила я при школе, в квартире Серафимы Алексеевны Сардановской.
Сережу Есенина я видела в Константинове, в доме священника Смирнова, а позже и в Солотче. Знала я и подругу Анюты, Марию Бальзамову. Очень они были разные - и по внешности, и по характеру. Анюта - смуглая и бойкая, а Маша - светловолосая, скромная, нежная. Из разговора девушек я поняла, что Есенин был более близок к Маше. В солотчинскую школу Есенин приезжал в 1912 или в 1913 году, когда у Серафимы Алексеевны отдыхали Анюта и Мария. Однажды Есенин привез с собой гармонь и играл на ней вечером, частушки пел. Ночевал он вместе с братом Серафимы Алексеевны, Николаем, в одной из комнат нашей квартиры; мы ставили для них койки-раскладушки.
Есенин переписывался с Анютой, и я видела у нее его письма, а писал ли он Маше - я не знаю. Припоминаю, что однажды Анюта и Мария учили роли какого-то спектакля, который, кажется, они ездили ставить в Константинове. Вот и все. Что знала, то и рассказала...
Через год не стало Серафимы Алексеевны Сардановской (она скончалась 18 февраля 1968 года). А школа в Солотче, о которой так тепло и задушевно вспоминали С. А. Сардановская и А. А. Волкова, находится сейчас рядом с поселковым Советом (улица Революции, дом 22). Низкая, бревенчатая, крытая железом, утопающая в зелени, с березками под окнами,- в ней есть что-то поэтическое, есенинское. С волнением входишь в бывшую квартиру Серафимы Алексеевны Сардановской: здесь останавливался Есенин! Теперь не только школа, но и вся Солотча с ее окрестностями становятся дороже нам. Поэт жил здесь, пусть и короткое время,- совершал прогулки и, может быть, обдумывал свои стихи...
После знакомства с С. А. Сардановской мне нетрудно было найти жену покойного Николая Алексеевича Сардановского, Лидию Николаевну Сардановскую, проживающую в Москве (сестра ее, от которой я узнал адрес, живет в Рязани). В годы юности Сергей Есенин и Николай Сардановский находились в близких дружеских отношениях.
Николай Алексеевич был музыкально одаренным человеком, и Есенин любил слушать его игру на скрипке и гитаре. Лидия Николаевна не знала Есенина, но много слышала о нем от мужа. Она передала мне стопку черновых записок Николая Алексеевича - подготовительный материал к воспоминаниям о поэте. С любопытством принялся я просматривать исписанные ровным почерком листы пожелтевшей бумаги. Записки эти оказались в большей своей части неопубликованными. В одном месте, где описывались встречи Сардановского и Есенина в Москве, мое внимание привлекли следующие строки: "Есенин был услужлив: на свои деньги водил меня в театр, дарил мне книги и ноты..." И я спросил Лидию Николаевну, не осталось ли у нее чего-либо из того, что дарил Есенин Николаю Алексеевичу.
- Как будто ничего нет. Мой муж вел переписку с Корнелием Зелинским, и, может быть, к нему что-нибудь перешло... Впрочем, остались, припоминаю, ноты, подаренные мужу Есениным; имелась на них короткая дарственная надпись поэта. Сейчас я не в состоянии их найти, они где-то среди вещей. Но эти ноты я найду и пришлю Вам. А в записках мужа есть что-нибудь новое?
- Да, есть. Вот обстоятельное описание наружности Есенина, чего нет в напечатанных воспоминаниях. Или такое: "Есенин жадно следил за разговорной речью и приходил в восторг, когда получалась неожиданная игра слов... Клавдий, перелистывая книжку, нашел портрет А. И. Куприна и в раздумье заметил: "Но... ты". Сидевший поодаль Сергей встрепенулся: "Ноты? Надо обязательно Коле показать!" Впоследствии в Москве Есенин делился со мной радостью по поводу того, что он сам выдумал довольно хлесткое выражение: "Мы на чужих дрожжах теста не замешиваем".
Далее тоже новое: "...Мне как-то не приходилось следить за работой Есенина по части составления стихов. Однако, бесспорно, он уже тогда много самостоятельно работал. Когда ему было примерно лет шестнадцать, запомнился мне такой случай. Летом в небольшой компании прогуливались мы по берегу Оки (на горах). Среди нас был его школьный учитель Иван Матвеевич Власов и еще два-три учителя. Кто-то из них высказал коротко свое мнение о писателях-футуристах и кубистах. Совершенно неожиданно Сережа стал четко, обоснованно, с большим знанием дела производить разбор основных направлений их деятельности. Это было для меня чрезвычайно удивительно, и я впервые понял, что мой приятель по-настоящему изучает область литературы". Да и еще кое-что есть.
- Мне приятно это узнать,- ответила Лидия Николаевна.- А ноты я скоро пришлю Вам в Рязань.
В самом деле, через несколько дней я получил обещанные ноты. Развернув красочно оформленные три больших разрозненных листа нот, прочитал: "Романсы и песни П. Чайковского". Взгляд потянулся к дарственной надписи чернилами: "На память дорогому Коле, Сережа". Внизу, все на том же первом листе, крупный печатный шрифт: "Собственность издателя П. Юргенсона в Москве". А на втором листе - нотная запись романса П. И. Чайковского "Ночь" на слова Д. Ратгауза:
Меркнет слабый свет свечи, Бродит мрак унылый, И тоской сжимает грудь С непонятной силой...
На третьем листе, внизу, имеется дата - 1909 год. Со слов Лидии Николаевны (а она узнала это от мужа), Есенин подарил эти ноты Н. А. Сардановскому в 1912 или 1913 году.
И письма Сергея Есенина к М. Бальзамовой (пятнадцать писем и одна почтовая открытка), и ноты, подаренные им Н. Сардановскому, переданы мною на хранение в Рязанский областной краеведческий музей.
Письма Есенина к Бальзамовой требовали дальнейших розысков людей, живших в то далекое время. Под Рязанью, в городке Рыбное, проживает подруга М. Бальзамовой, теперь уже пожилая приветливая женщина Мария Петровна Нурминская. Она рассказала, что училась в Рязанском епархиальном училище вместе с Анютой Сардановской и Машей Бальзамовой с 1906 по 1912 год, что Анюта обладала прекрасным голосом, отличалась пением в церковном хоре и на светских вечерах в общежитии; что Маша Бальзамова была веселой, жизнерадостной девушкой. После училища М. Нурминская потеряла с ними связь.
Зная, что после окончания епархиального училища М. Бальзамова работала в селе Калитинке, я отправился в это село. В живописной местности с огромным старым садом и давним прудом совсем не нашлось нужных мне людей, но там, в Калитинке, мне сообщили, что двое бывших учеников Марии Парменовны в настоящее время живут в Рязани. И я увиделся с ними, пенсионерами Н. В. Колядовым и М. П. Косягиным.
- В трехклассном церковноприходском училище я учился последний год у Марии Парменовны,- говорил Н. В. Колядов.- Кроме нее учил нас церковной премудрости священник Александр Васильев. Был он строгим, даже бил нас, и мы не любили его. А Мария Парменовна - молодая, красивая, веселая и бодрая,- покорила нас совершенно. Любила она детей. Соберет, бывало, нас в перемену, возьмет в руки балалайку и скажет: "Пляшите, ребята!" Играла она замечательно, и мы наперебой бросались в пляску: зимой - в лаптишках, летом - босиком. "А теперь распевайте частушки",- и подыгрывает нам. Потом предупреждала: "Батюшке об этом не говорите". Молчали мы, конечно.
- Очень заботилась Мария Парменовна о своих лучших учениках, среди которых был и я,- дополнил рассказ своего друга М. П. Косягин.- После занятий в школе часто она приглашала нас в свою комнату, которая находилась при школе, о многом рассказывала, давала нам домой читать книги. Когда я окончил школу с отличием и получил похвальный лист, она обняла, расцеловала меня и назвала героем дня...
Село Мошены, куда я также наведался, оказалось всего из семи домов. Оно исчезает, уходит в прошлое, как и многие другие мелкие селения. Не осталось ни церкви, ни школы, потому что рядом в старинной большой Алешне - и хорошая школа, и просторный клуб. Зато я нашел бывшую ученицу Бальзамовой, Александру Кузьминичну Кузьмину. Рассматривая фотокарточку своей учительницы, она говорила, волнуясь:
- Очень хорошо помню Марию Парменовну. Училась я у нее здесь, кажется, в 1914 году. Жила она при школе, готовила спектакль, а вечером собирался народ смотреть постановки. Ах, какая она была славная, спокойная, выдержанная; любила нас, и мы любили ее...
Но как я ни расспрашивал Александру Кузьминичну, как ни наводил справки в селах Мошены и Алешне, установить, бывал ли в этой местности Есенин, не удалось.
Поиски материалов и сведений о Сергее Есенине, конечно, на этом не могут закончиться. В течение ряда лет я записываю воспоминания знавших поэта людей. Их еще немало и в Рязани, и в других места. Время не ждет: многое важное, нужное безвозвратно уходит из жизни. Особенно хочется найти неопровержимые данные о поездках Есенина в Рязань, где, как известно, он не однажды бывал.
1
(Москва, 23 (?) июля 1912 г.)
Маня! После твоего отъезда я прочитал твое письмо. Ты просишь у м<ен>я прощения, сама не знаешь за что. Что это с тобой?
Ну вот, ты и уехала... Тяжелая грусть облегла мою душу, и мне кажется, ты все мое сокровище души увезла с собою...
Я недолго стоял на дороге; как только вы своротили, я ушел... И мной какое-то тоскливое тоскливое овладело чувство. Что было мне делать, - я не мог и придумать. Почему-то мешала одна дума о тебе всему рою других. Жаль мне тебя всею душой, и мне кажется, что ты мне не только друг, но и выше даже. Мне хочется*, чтобы у нас были одни чувства, стремления и всякие высшие качества. Но больше всего одна душа - к благородным стремлениям.
* (Мне хочется... - Далее несколько слов зачеркнуто самим Есениным, восстановить их не удалось.)
Что мне скажешь, Маня, на это?
Теперь я один со своими черными думами!
Скверное мое настроение от тебя не зависит, я что-то сделал с (собой, - слово зачеркнуто. - Ред.), чего не могу никогда-никогда тебе открыть. Пусть это будет чувствовать моя грудь, а тебя пусть это не тревожит. Я написал тебе стихотворение*, которое сейчас не напишу, потому что на это нужен шаг к твоему позволению.
* (Я написал тебе стихотворение...- Стихотворение "Ты плакала в вечерней тишине...", текст его см. в письме № 8.)
Тяжелая, безнадежная грусть!
Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое неприятное? Или - жить, или - не жить? И я в отчаянии ломаю руки, - что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле и так презрительно сказать самому себе: зачем тебе жить, ненужный, слабый и слепой червяк? Что твоя жизнь? "Умрешь - похоронят, сгниешь и не встанешь"* (так пели вечером после нашей беседы эту песню; спроси у Анюты**, ты сама ее знаешь, верно, и я тоже. "Быстры, как волны...", "Налей, налей, товарищ" (это сочинил Серебрянский,*** друг Кольцова, безвременно отживший). Незавидный жребий, узкая дорога, несчастье в жизни.
* ("Умрешь - похоронят, сгниешь и не встанешь" - неточная цитата из стихотворения А. П. Серебрянского "Быстры, как волны, дни нашей жизни..." (см. ниже, прим. 5).)
** (Спроси у Анюты... - Анюта - Анна Алексеевна Сардановская (1895-1922), подруга М. П. Бальзамовой, закомая Есенина.)
*** (Это сочинил Серебрянский, друг Кольцова...- Серебрянский (Сребрянский) Андрей Порфирьевич (1810-1838) - сын сельского священника, учился в воронежской гимназии, затем - студент-медик; из-за тяжелого материального положения и плохого здоровья вынужден был прервать учебу и вернуться на родину, где и умер 27-ми лет. Во время учебы в воронежской гимназии организовал и возглавил кружок молодежи, участники которого обсуждали философские сочинения и произведения художественной литературы, в частности запрещенные стихотворения А. С. Пушкина. В 1829 году членом этого кружка стал Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842), впоследствии известный русский поэт. Сам А. В. Кольцов считал А. П. Серебрянского своим первым литературным учителем и наставником. "Вместе с ним мы росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили; и я так много был ему обязан",- писал он В. Г. Белинскому 28 сентября 1839 года, тяжело переживая раннюю смерть Серебрянского.
Из литературных произведений А. П. Серебрянского наибольшую известность приобрело его стихотворение "Быстры, как волны, дни нашей жизни...", ставшее популярной студенческой песней; именно это произведение цитирует (неточно) Есенин в своем письме. Ниже следует его полный текст:
Быстры, как волны, Ловите ж минуты Веселый наш миг. Как не был на свете; Будущность темна, К беседе друзей. Напеним янтарной Забвения чашу! Для нас навсегда; И краток и дорог Умрешь - похоронят, Веселый наш миг. Полнее ж, полнее Струею бокалы! Для нас впереди? Дни нашей жизни; Сгниешь - не восстанешь Что час, то короче Как осени ночи; К могиле наш путь. Прошедшее гибнет Текущего быстро,- Как знать, что осталось И краток и дорог
В процессе бытования песни текст ее подвергался изменениям, чем, видимо, и объясняются разночтения в цитируемых Есенинным отрывках. Кроме того, Есенин цитирует также припев, отсутствующий в первоначальном тексте и дописанный, очевидно, позднее:
Налей, налей, товарищ, Заздравную чару. Бог знает, что с нами Случится впереди.
)
Что больше писать - не знаю, но от тебя жду ответа.
Привет Анюте, Симе* и маме их.
* (Привет Анюте, Симе...- Анюта - см. прим. 4; Сима - Серафима Алексеевна Сардаковская (1891-1968), старшая сестра А. А. Сардановской, общая знакомая Есенина и Бальзамовой.)
Пока остаюсь преданный тебе
Не знаю, что тебе сказать: прощай или до свидания.
P. S. Стихотворение напишу в следующий раз. Не в духе я. Прости за грязное письмо, разорви его к черту.
2
(Москва, сентябрь 1912 г.)
Маня! Прости за все. Посылаю тебе адрес свой: г. М/осква/, Большой Строченовский пер., д. Крылова, 24, кв. II*. После этого все пойдет по-настоящему, а то я никак не мог устроиться. Приготовься к знакомству с Панфиловым (в письмах)**. И не говори, что для тебя все удовольствие - танцы, как проговорилась мне. Он не будет тогда представлять себе тебя в чистом, возвышенном духе. Прости за скверное письмо и пошли его к самому аду.
* (Посылаю тебе адрес свой...- По этому адресу Есенин, согласно отметке в запросе Московского охранного отделения, был прописан 18 августа 1912 года (фотокопию документа см. в книге: Ю. Прокушев. Юность Есенина, М., 1963, стр 144).)
** (Приготовься к знакомству с Панфиловым...- Панфилов Григорий Андреевич (189... - 1914) - друг Есенина по Спас-Клепиковской второклассной учительской школе, умер от туберкулеза 25 февраля 1914 года. В одном из писем к нему Есенин писал: "Желаешь если, я познакомлю вас письмами с М. Бальзамовой, она очень желает с тобой познакомиться, а при крайней нужде хотя в письмах. Она хочет идти в учительницы с полным сознанием на пользу забитого и от света гонимого народа".)
Нет времени. Объяснение после.
3
(Москва, конец 1912 г.)
Дорогая Маня!
Сердечно благодарю тебя за оба письма. Зачем, зачем тебе знать нужно, Маня, о том, что я сделал? Ты думаешь, что я тебе своим поступком причинил боль, но - нет! Зачем? Это пусть лучше знает моя грудь; она так много выносит всего, что и не перечесть. Ты сама, Маня, этим вопросом мучаешь меня. Забудь об этом. Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселия, но это еле-еле заметно. Хотя никто, я думаю, не догадываемся о моей тоске. Ты ничего никому не открывай об этом. Главное. Меня терзают такие мелкие и пустые душонки, напр/имер/, как Северовы*, которые всячески стараются унизить меня перед собою и приносят своими грубыми словами обиду и горечь. Но, что делать? Они - такие, а я - такой. Прости меня, Маня, за такое холодное письмо, я в негодовании на них.
* (Меня терзают такие мелкие и пустые душонки, например, как Северовы... - Северовы - односельчане Есенина, хорошо, видимо, известные и адресату; они вскользь упоминаются в воспоминаниях Н. А. Сардановского о юношеских годах Есенина в Константинове: "Потом мы, очарованные, слушали, как две миловидные барышни Северовы под собственный аккомпанемент на гитаре пели простенькие песенки" (Н. А. Сардановский. Из воспоминаний юности.- В кн.: Воспоминания о Сергее Есенине. Сборник. Под общ. ред. Ю. Л. Прокушева. М., 1965, стр. 90).)
Ох Маня! Тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить, а если и есть, то такие лица от меня всегда далеко и их очень-очень мало, или, можно сказать, одно или два. Так, Маня, я живу. Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти*. Потому что он меня проклянет, если это узнает. Вот так и живи. Людишки (вместо того.- Ред.), чтобы меня немного успокоить, - приносят обиду. Маня, Маня! Зачем ты - такая? Жалеешь меня, это тебя не стоит. Я еще больше люблю тех, которые мне вредят, хотя и в то же время ненавижу. Зачем тебе было, Маня, любить меня, вызывать и возобновлять в душе надежды на жизнь. Я благодарен тебе и люблю тебя, Маня, - как и ты меня. Хотя некоторые чувства ты от меня скрываешь. Прощай, прощай, Маня. Ты теперь мне не пиши покамест, а то я уезжаю и адреса точного не могу тебе дать**. Я же буду тебе писать каждую почту.
* (Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти...- Письмо написано в тяжелый для Есенина период мучительных размышлений и, являясь своеобразным "криком души", ни в какой мере не отражает его подлинного отношения к родителям - Татьяне Федоровне и Александру Никитичу. По многочисленным - свидетельствам современников известно, сколь трогательно и нежно относился он к матери, а взаимоотношения поэта с отцом предстают в совершенно ином свете после ознакомления с письмами Александра Никитича к сыну (списки некоторых из этих писем хранятся в Государственном литературном музее в Москве). Временное и непродолжительное осложнение отношений Есенина с родителями, главным образом с отцом (что вообще свойственно поре юности), следует объяснять прежде всего возрастными особенностями. Характерно, однако, что уже в то время Есенин понимал некоторую несправедливость упреков молодежи по отношению к старшему поколению, к родителям. Он писал, например, М. Бальзамовой (письмо № 9): "Я знаю, наверное уже тебя притесняют родители, но, Маня, ты на них не сердись: они всегда тебе желают добра..." Через много лет, в октябре 1924 года, Есенин писал А. А. Берзинь: "Очень я Вас ругаю зa то, что Вы обидели отца. Право, он этого не заслужил. Хоть я и сам от его опеки убегал в города и веси сей страны... но сердце его доброе и отзывчивое. Думаю, не мешало бы Вам обязательно помириться".)
** (Я уезжаю и точного адреса не могу тебе дать...- Куда Есенин собирался уехать и выезжал ли - не выяснено.)
Прощай, дорогая Маня; нам, верно, больше не увидеться. Роковая судьба так всегда шутит надо мною. Тяжело, Маня, мне! А вот почему?
4
<Москва, конец 1912 г.>
Милая!
Как я рад, что наконец-то получил от тебя известия. Я почти безнадежно смотрел на ответ того, что высказал в своем горячем и безумном порыве*. И... И вдруг вопреки этому ты ответила. Милая, милая Маня. Ты спрашиваешь меня о моем здоровье; я тебе скажу, что чувствую себя неважно, очень больно ноет грудь. Да, Маня, я сам виноват в этом. Ты не знаешь, что я сделал с собой, но я тебе открою. Тяжело было, обидно переносить все, что сыпалось по моему адресу. Надо мной смеялись, потом и над тобой. Сима открыто кричала: "Приведите сюда Сережу и Маню, где они?" Это она мстила мне за свою сестру. Она говорила раньше всем, что это моя "пассе", а потом вдруг все открылось. Да потом сама она, Анюта-то, меня тоже удивила своим изменившимся, а может быть - и не бывшим порывом. За что мне было ее любить? Разве за все ее острые насмешки, которыми она меня осыпала раньше? Пусть она делала это и бессознательно, но я все-таки помнил это, но хотя и не открывал наружу. Я написал ей стихотворение, а потом (может, ты знаешь от нее) - разорвал его**. Я не хотел иметь просто с ней ничего общего. Они в слепоте смеялись надо мною, я открыл им глаза, а потом у меня снова явилось сознание, что это я сделал насильно, и все опять захотел покрыть туманом, - все равно это было бы напрасно. И может быть когда-нибудь принесло мне страдание и растравило бы более душевные раны. Сима умерла заживо передо мной, Анна - умирает.
* (Я почти безнадежно смотрел на ответ того, что высказал в своем горячем и безумном порыве...- Речь идет, очевидно, о не дошедшем до нас письме Есенина к Бальзамовой.)
** (Я написал ей стихотворение, а потом (может, ты знаешь от нее) - разорвал его.- Речь идет, по-видимому, о стихотворении "Зачем зовешь т. р. м." (текст его не разыскан), о котором Есенин писал в одном из писем Г. А. Панфилову. А. А. Сардановской было посвящено также стихотворение "За горами, за желтыми долами...")
Я, огорченный всем после всего, на мгновение поддался этому и даже почти сам сознал свое ничтожество. И мне стало обидно на себя. Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и... и теперь оттого болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какою-то мутною дымкой. Потом, - я сам не знаю, почему, - вдруг начал пить молоко и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло, и никто ничего-ничего не узнал. Конечно, виноват я и сам, что поддался лживому ничтожеству, и виноваты и они своею ложью.
Живу я в конторе Книготоргового т-ва "Культура", но живется плохо. Я не могу примириться с конторой и с ее пустыми людьми*. Очень много барышень, и очень наивных. В первое время они совершенно меня замучили. Одна из них, - черт ее бы взял, - приставала, сволочь, поцеловать ее и только отвязалась тогда, когда я назвал ее дурой и послал к дьяволу. Никто почти меня не понимает, всего только-только двое слушают охотно; для остальных мои страдания - речи. Один - академик, другой - очень серьезный и милый юноша, как и я, чуждый всем. Я насмехаюсь открыто надо всеми, и никто не понимает, лишь они. Получаю я немного, только 25 р. Скоро прибавят, верно.
* (Я не могу примириться с конторой и с ее пустыми людьми.- Об этом же Есенин писал и Г. А. Панфилову: "В конторе жизнь становится невыносимой. Что делать?")
Панфилов скоро пришлет мне ответ, и я ему дам адрес*. Карточку я тебе пришлю после, со своей.
* (Панфилов скоро пришлет мне ответ...- см. прим. 2 к письму № 2.)
Обнимаю, тебя, моя дорогая! Милая, почему ты не со мной и не возле меня?
5
(Москва, конец 1912 г.)
Дорогая Маня!
Благодарю сердечно за твой привет. Я очень много волновался после твоего письма. Зачем? Зачем ты проклинаешь несчастный, и без того обиженный, народ. Неужели такие пустые показания, как, например, "украл корову", тебя так возмутили, что ты переменила вмиг свои направления, и в душе твоей случился переворот? Напрасно, напрасно, Маня! Это - пустая и ничтожная, не имеющая значения причина. Много случается примеров гораздо серьезнее этого, от которых, пожалуй, и правда возникают сомнения, и на мгновение, поддаваясь вспышке, готов поднять меч против всего, что тебя так возмущает, и невольно как-то из души вылетают презрительные слова по направлению к бедным страдальцам. Но после серьезного /о/сознания это все проходит, и снова готов положить душу за право своих братьев.
Подумай, отчего это происходит. (Я теперь тебя тоже уже буду причислять к моим противникам, но ты ничего особенного и другого чего не выводи.) Не вы ли своими холодными поступками заставляете своего брата (родства с которым вы не признаете) делать подобные преступления? Разве вы не видите его падения? Почему у вас не возникают мысли, что настанет день, когда он заплатит вам за все свои унижения и оскорбления? Зачем вы его не поддерживаете - для того, чтобы он не сделал чего плохого благодаря своему безвыходному положению? Зачем же вы на его мрачное чело налагаете клеймо позора? Ведь оно принадлежит вам, и через ваше холодное равнодушие совершают/ся/ подобные поступки. А если б я твоего увидел попика*, то я обязательно наговорил бы ему дерзостей. Как он смеет судить, когда сам готов снять последний крест с груди бедняка. Небойсь, где хочешь бери четвертак ему за молебен**. Ух, я бы его... Хорошо ему со своей толстой, как купчихой, матушкой-то!..
* (А если б я твоего увидел попика...- Есенин имеет в виду отца адресата, Пармена Степановича Бальзамова, который был дьяконом.)
** (Небойсъ, где хочешь бери четвертак ему за молебен.- Через три года мысль эта нашла отражение в повести Есенина "Яр": "Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Под дай не дай, четвертную ломит.
- Ты, батюшка, крест с нас сымаешь, - кричали мужики. -
Мы будем жаловаться ирхирею.
- Хоть к митрополиту ступайте, - ругался поп. - Задаром я вам слоняться не буду".
)
Ну, ладно, убежденного не убедишь.
Конечно, милая Мария, я тебя за это ругаю, но и прощаю все по твоей невинности.
Зачем ты мне задаешь все тот же вопрос? Ах, тебе приятно слышать его? Ну, конечно, конечно, - люблю безмерно тебя, моя дорогая Маня! Я тоже готов бы к тебе улететь, да жаль, что все крылья в настоящее время подломаны. Наступит же когда-нибудь время, когда я заключу тебя в свои горячие объятия и разделю с тобой всю свою душу. Ох, как будет мне хорошо забыть твои (свои? - Ред.) волнения у твоей груди! А может быть, все это мне не суждено! И я должен влачить те же суровые цепи земли, как и другие поэты. Наверное, - прощай сладкие надежды утешенья, моя суровая жизнь не должна испытать этого.
Пишу много под нависшею бурею гнева к деспотизму. Начал драму "Пророк"*. Читал ее у меня довольно образованный человек, кончивший университет по историко-филологическому факультету. Удивляется, откуда у меня такой талант, сулит надежды на славу, а я посылаю ее к черту.
* (Начал драму "Пророк".- Судьба этого произведения Есенина неизвестна. Судя по другим письмам поэта к Бальзамовой (см. №№ 6, 7), оно было закончено, однако текст его до сих пор не разыскан. О характере его можно судить по одному из писем Есенина к Г. А. Панфилову: "Благослови меня, мой друг, на благородный труд. Хочу писать "Пророка", в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу. Если в твоей душе хранятся еще помимо какие мысли, то прошу тебя, дай мне их, как для необходимого материала. Укажи, каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме. Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему "Пророку". Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки. Я буду тверд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду с сознанием благородного подвига". Содержание "Пророка" отражает, возможно, и шестое письмо Есенина к Бальзамовой.)
Скоро и кончится конкурс Надсона*.
* (Скоро и кончится конкурс Надсона.- Литературный конкурс, в котором Есенин принимал участие.)
Прощай, моя милая. Посылаю поцелуй тебе с этим письмом.
Панфилов очень рад, я ему сообщил*.
* (Панфилов очень рад, я ему сообщил.- Есенин, вероятно, имеет в виду согласие Г. А. Панфилова на переписку с М. П. Бальзамовой (см. прим. 2 к письму № 2).)
Жду твоего письма.
6
(Москва, начало 1913 г.)
Жизнь - это глупая шутка. Все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. Лучи солнышка влюбились в зеленую ткань земли и во все ее существо, - и бесстыдно, незаметно прелюбодействуют с ней. Люди нашли идеалом красоту - и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и разражаются похотью. И это-то, - игра чувств, чувств постыдных, мерзких, гадких, - названо у них любовью. Так вот она, любовь! Вот чего ждут люди с трепетным замиранием сердца! "Наслаждения, наслаждения!" - кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. Люди все - эгоисты. Все и каждый только любит себя и желает, чтобы все перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство, - наслаждение.
Но есть люди, которые с тоскою проходят свой жизненный путь, и не могут они без отвращения смотреть на дикие порывы человечества к этому наслаждению. Редко улыбается им мрачная жизнь, построенная на началах преступления, увязшая в пороках и разврате и не желающая оттуда вылезти. Не могут они равнодушно переносить окружающую пустоту, и дух их тоскует и рвется к какому-то неведомому миру, и они умирают наперед раскрытыми вопросами отвратительной жизни, - увядают эти белые, чистые цветы среди кровавого болота, покрытого всею чернотой и отбросами жизни.
Жизнь идет не по тому направлению, и люди, влекомые ее шумным потоком, не в силах сопротивляться ей и исчезают в водовороте ее жуткой и страшной пропасти.
Человек любит не другого, а себя, и желает от него исчерпать все наслаждения. Для него безразлично, кто бы он ни был, - лишь бы ему было хорошо. Женщина, влюбившись в мужчину, в припадке страсти может отдаваться другому, а потом - раскаиваться. Но ведь этого - мало, а больше нечем закрыть вины и к прошлому тоже затворены двери, и жизнь, действительно, - пуста, больна и глупа.
Я знаю, ты любишь меня; но подвернись к тебе сейчас красивый, здоровый и румяный с вьющимися волосами, другой,- крепкий по сложению и обаятельный по нежности, - и ты забудешь весь мир от одного его прикосновения, а меня и подавно, отдашь ему все свои чистые, девственные заветы. И что же, не прав ли мой вывод?
К чему же жить мне среди таких мерзавцев, расточать им священные перлы моей нежной души. Я - один, и никого нет на свете, который бы пошел мне навстречу такой же тоскующей душой; будь это мужчина или женщина, я все равно бы заключил его в свои братские объятия и осыпал бы чистыми и жемчужными поцелуями, пошел бы с ним от этого чуждого мне мира, предоставляя свои цветы рвать дерзким рукам того, кто хочет наслаждения.
Я не могу так жить, рассудок мой туманится, мозг мой горит и мысли путаются, разбиваясь об острые скалы жизни, как чистые, хрустальные волны моря.
Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, - я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую.
7
(Москва, начало 1913 г.)
Здравствуй, Маня!
Глубоко благодарю тебя за твое письмо. Маня, я не виновен совершенно в нашем периоде молчания. Ты виновата кругом. Я тебе говорил когда-то, что я, думаю, приношу людям, которые меня окружают, несчастие, а потому или я их покидаю, или они меня. Я подумал, что я тебе причинил боль, а потому ты со мной не желаешь иметь ничего общего. С тяжелой болью я перенес свои волнения. Мне было горько и обидно ждать это от тебя. Ведь ты говорила, что никогда меня не бросишь. Ты во всем виновата, Маня. Я обиделся на тебя и сделал великую для себя рану. Я разорвал все твои письма, чтобы они более никогда не терзали мою душу. Ведь ты сама понимаешь, как тяжело переносить это. Но виновата ты. Я не защищаю себя, но все же ты, ты виновная.
Прости меня, если тебе обидно слышать мои упреки, - ведь это я любя. Ты могла ответить Панфилову, и то тогда ничего бы не было. Долго не получая письма, я написал ему, что между тобой и мной все кончено (я так думал)*. Он выразил глубокое сожаление в следующих словах: "Неужели и она оказалась такой же бездушной машиной? Жаль, Сережа, твоей ошибки", - притом просил объяснения причины. Я ему по сие время (о причине,- Ред.) не отвечал. В это время наша дружба с ним еще более скрепилась, переписка у нас участилась. Мы открывали все, - все, что только чувствовали, - друг перед другом. Помню, он мне сказал на мое письмо, в котором я ему писал: "И скучно и грустно, и некому руку подать"** (Лермонтов), - он ответил продолжением и сказал еще: "Чего мы ждем с тобою, друг; время-то не ждет, можно с громадным успехом увязнуть в мире житейской суеты и разврата. "А годы проходят, все лучшие годы"*** (Лермонтов). Потом мы разбирали Великого идеалиста Пырикова,**** нашего друга, который умер 18-ти лет в 1912 г., июне месяце. Он стал жертвой семьи и деспотизма окружающих. Умер от чахотки.
* (я написал ему (Панфилову.- В. Б.), что между тобой и мной все кончено...- В письме к Г. А. Панфилову Есенин писал: "Э! Ты не жди от синьориты Бальзамовой ответа. Я уже с ней прикончил чепуху. Право слово, впоследствии это для нее будет вредно, если она будет возжаться со мной. Письмами ее я сла4вно истопил бы печку, но черт меня намекнул бросить их в клозет. И что же... Бумага, весом около пуда, все засорила, и, конечно, пришлось звать водопроводчика. И с ними-то беда, а с ней бы еще хуже. Хорошо, все так кончилось. При встрече - слезы, при расставании - смех и гордость. Славно!" (опубл. в кн.:
В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника, ч. 1. М., 1969, стр. 185-186).)
** ("И скучно и грустно, и некому руку подать..." - из стихотворения М. Ю. Лермонтова "И скучно и грустно" (1840).)
*** ("А годы проходят - все лучшие годы!" -Из того же стихотворения М. Ю. Лермонтова.)
**** (Пыриков Дмитрий (189...-1912) - соученик Есенина по второклассной Спас-Клепиковской учительской школе. О нем Есенин писал Г. А. Панфилову в письме, предположительно датированном в собрании сочинений поэта октябрем 1913 года.)
"Пророк" мой кончен, слава богу*. Мне надоело уж писать. Теперь я буду понемногу Свои ошибки разбирать.
* ("Пророк" мой кончен, слава богу...- См. прим. 3 к письму №5.)
Очень удачно я его написал в экономическом отношении (черновик - 10 листов больших, и 10 листов - беловых написал), только уж очень резко я обличал пороки развратных людей мира сего.
Надеюсь на тебя, как на друга и даже больше чем друга (если не понравится, то я не буду тебя считать больше друга, потому что это = равенству и единству), что ты мне все простишь, и мы снова будем жить по-прежнему и даже должны лучше.
Глубоко любящий тебя
8
(Москва, начало 1913 г.)
Дорогая Маня!
Благодарю за ответ. Ты просишь объяснения слов "чего - ... ждем". Здесь очень все ясно. Ведь ты знаешь, что случилось с Молотовым (герой романа Помялов/ского/). Посмотри, какой он идеалист и либерал, и - чем он кончает? Эх, действительно что-то скучно, господа! Жениться, забыть все свои порывы, изменить убеждениям и окунуться в пошлые радости семейной жизни. Зачем, зачем он совершил такой шаг? (А Помяловского я теперь не признаю, хотя и /раньше.- Ред./ не признавал,- он слишком снисходительно относится к его /Молотова. - Ред./ поступкам./*
* (Помяловский Николай Герасимович (1835-1863) - русский писатель. Есенин имеет в виду Егора Молотова, главного героя повести Н. Г. Помяловского "Молотов" (1861), представителя той части разночинной молодежи, светлые идеалы которой постепенно уступали место усиливавшимся стремлениям к буржуазному благополучию: утверждая разночинное сословие как новую общественную силу, Егор Молотов, однако, так и не приходит к мысли о необходимости борьбы за народное дело, останавливаясь на идеале "мещанского счастья" и по существу капитулируя перед действительностью.)
Вот и с нами, пожалуй, может случиться сие.
Начинаю так, чтобы больше тебе написать*.
* (Начинаю так, чтобы больше тебе написать.- Последующая часть письма написана очень мелким почерком.)
Ты ошибаешься, что я писал драму в прозе. Нет, я писал, как обыкновенно, - стихами. Теперь меня опять заставляют его (т. е. "Пророк".- Ред.) переписать: есть немного ошибок со стороны логики, это вещь неважная. Читала ли ты когда в "Русском слове" статьи Яблоновского?* Я с ним говорил по телефону относительно себя, он просил меня прислать ему все мои вещи. У меня (их.- Ред.)теперь много. Теперь у меня есть еще новый друг, некто Исай Павлов**, - по убеждениям сходен с нами (с Панфиловым и мною), последователь и ярый поклонник Толстого, тоже вегетарианец. Он увлекается моими творениями, заучивает их наизусть, поправляет по своему взгляду и, наконец, отнес Яблоновскому. Вот я теперь жду, что мне скажут.
* (Яблоновский (псевд.; наст, фамилия - Потресов) Сергей Викторович (1870-1929?) - русский журналист, театральный и литературный критик, сотрудник редакции московской газеты "Русское слово".)
** (Исай Павлов - товарищ Есенина, бывший, очевидно, посредником в знакомстве поэта с С. В. Яблоновским. Ряд сведений о нем содержат письма Есенина к Г. А. Панфилову: "Да, еще со мной хочет познакомиться некая особа, весьма, по слухам, серьезная. Это какой-то Исай Павлов, юноша, как и мы, и с такими же порывами. Он прислал хозяину письмо, так как тот ему знаком, и наболтал, конечно, что-нибудь про меня, то вот он и, конечно, захотел, - частью, может быть, из благой цели, а частью из гордости,- увидеть мои сочинения и узнать, кто из нас лучше пишет... Он хочет показать их, с разрешения г-на Есенина, Яблоновскому" (опубл. в кн.: В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника, ч. 1. 1969, стр. 185); "Слушай, Гриша! Я писал тебе когда-то о г. Павлове. Теперь... могу я вас через письма познакомить. Этот господин очень желает поближе сойтись с нами, потому что убеждения его во многом сходны с нами. Кроме того, он вегетарианец, умеет затронуть кое-какие вопросы. Вообще, человек полного уразумения... Он уже по моим рассказам очень хорошо тебя знает и жаждет знакомства. Кроме всего, я сообщаю тебе великую новость. Одержимы, так сказать, бесами, я когда-то, тебе известно, испускал из своих уст и ноздрей дым кадильный сатаны; теперь же, благодаря сему Павлову, я бросил сию пакость. Я дал оному слово, а давши слово - крепись" (там же, стр. 186). Есенин, очевидно, состоял в переписке с И. Павловым, в чем косвенно свидетельствует одно из его писем к Г. А. Панфилову ("Слушай, ты пропиши Павлову, что я писать пока ему погожу. Но я, скажи ему, весьма всем доволен и рад, что его духовный перелом увенчался смиренным раскаянием. Я нисколько на это не сетую"),- однако документальных данных (писем), подтверждающих это, не сохранилось.)
Панфилову, я думаю, тебе не следует писать после всего этого*. Но ты, впрочем, как хочешь. Я не знаю...
* (Панфилову, я думаю, тебе не следует писать после всего этого.- См. письмо № 7.)
Стихотворение тебе я уже давно написал*, но как-то написать в письме было неохота. Я, признаться сказать, не люблю писать письма, читать их люблю. Я не знаю, почему такое сегодня я вышел из рамок, обыкновенно я всегда стараюсь как бы поскорее отделаться от письма. Потому и грешен, иногда совершенно упускаю из виду нарочно разные деловые вопросы. Панфилов - и то, наконец, примирился со мной. Он страстно любит писать письма. Ну да ладно. Вот тебе стихотворение:
* (Стихотворение тебе я уже давно написал...- См. письмо № 1.)
Ты плакала в вечерней тишине, И слезы горькие на землю упадали; И было тяжело и так печально мне,- И все же мы друг друга не поняли. Умчалась ты в далекие края, И все мечты мои увянули без цвета; И вновь опять один остался я Страдать душой без ласки и привета. И часто я вечернею порой Хожу к местам заветного свиданья, И вижу я в мечтах мне милый образ твой, И слышу в тишине тоскливые рыданья.
Больше, хоть убей, не могу дописать письма, да, к счастью, уже половина 1-го.
Засиделся с тобою, а завтра что?
Ну, пожелаю доброй ночи и приятных снов.
9
(Москва, весна 1913 г.)
Как грустно мне твое явленье!* Весна, весна, пора любви!
* ("Как грустно мне твое явленье!.." -Начало второй строфы седьмой главы романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".)
Милая Маня! Благодарю, благодарю глубоко и сердечно за твое великодушие. Я знаю, ты, конечно, уже все слышала о последнем моем периоде жизни. Маня, я искренно жалею, что не пришлось довершить до конца этих святых порывов; сил не хватило переносить насмешки и обиды. Кто знает, может быть, это самые высокие идеалы, которых еще пугается человечество. Но раз им не пришлось осуществиться, так предоставим их разбирать уже дальнейшему поколению. Воли у меня хватило бы идти на крест, но силы душевной и телесной совершенно был лишен я. Ну... Впрочем, я об этом никому никогда не расскажу, и к чему поднимать старые раны!.. Ох, как тяжело, Маня! Да и зачем я буду мучить себя?
Слишком больно!
Прости, что плохо и нечетко пишу.
На лице, около нижней губы, почему-то выступили угри, чего сроду не было со мной; брил бороду и срезал их, - так принялись болеть, и вот я повязался и все время несколько хватаюсь рукою.
Ну, как ты поживаешь? Думаешь ли ты опять в Калитинку на зимовку? Я, может быть, тогда бы тебя навестил. Да, кстати, нам необходимо с тобой увидеться и излить пред собою все чувства; но это немного спустя, когда ты устроишься одна. Я знаю, наверное уже тебя притесняют родители, но, Маня, ты на них не сердись: они всегда тебе желают добра, а это, небось, думают, увлеклась, как бы худого чего не было. Я боюсь только одного: как бы тебя не выдали замуж. Приглянешься кому-нибудь и сама... не прочь - и согласишься. Но я только предполагаю, а еще хорошо-то не знаю. Ведь, Маня, милая Маня, слишком мало мы видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чистый тогда, что и не подозревал в тебе этого чувства. Я думал, так ты ко мне относилась из жалости, потому что хорошо поняла меня. И опять, опять: между нами не было даже, - как символа любви, - поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают заветы целомудрия, и от чего любовь обоих сердец чувствуется больше и сильнее.
Ну, как приняла письма мои г-жа Сардановская?* Я посылал им письмо, но они, наверное, не поняли его, как я предполагаю. Они подумают в обратную сторону.
* (Ну, как приняла письма мои г-жа Сардановская? - Часть писем Есенина к А. А. Сардановской сохранилась (см.: А. Миронов. Письма Сергея Есенина в Дединове.- "По ленинскому пути", Луховицы (Моск. обл.), 1971, 15 июня), но тексты их еще не опубликованы.)
Отрывчатые мысли.
На квартире я теперь в № 13. Благодарю за карточку-открытку. Я получил ее. Фотографию немедленно присылай. Прямо пробную. Я слышал, ты совсем стала выглядеть женщиной, а я ведь пред тобою мальчик. Да и совсем я невзрачный. Я уже было разочаровался в получении вести от тебя. Ты знаешь, я не курю, но думаю начать. Очень скучно, а работать, заняться чем, - так я и совсем себе отдыху не даю. Последнее время пишу поэму "Тоска"*, где вывожу под героем самого себя и нещадно критикую и осмеиваю. Что же делать, - такой я несчастный, что и сам себя презираю. Только тебя я не могу понять: смешно, право, за что ты меня любишь? Заслужил ли? Ведь это было как мимолетное виденье.
* (Пишу поэму "Тоска"...- Судьба этого произведения Есенина неизвестна.)
Любящий тебя
10
Москва, 29 мая 1913 г.
Моя просьба осталась тщетною.*
* (Моя просьба осталась тщетною.- О какой просьбе идет речь - неизвестно. Возможно, Есенин имеет в виду неоднократно высказываемую в письмах к М. П. Бальзамовой просьбу прислать фотокарточку адресата.)
Вероятно, я не стою Вашего внимания.
Конечно, Вам низко или, быть может, трудно написать было 2 строчки; ну, так прошу извинения, в следующий раз беспокоить не стану.
Успокойтесь, прощайте!
11
Москва, конец 1913 - начало 1914 г.
Маня!
Забывая все прежние отношения между нами, я обращаюсь к тебе, как к человеку: можешь ли ты мне ответить? Ради прежней святой любви, я прошу тебя не отмалчиваться. Если ты уже любишь другого, я не буду тебе мешать. Но я (буду. - Ред.) глубоко счастлив за тебя. Дозволь тогда мне быть хоть твоим другом. Я всегда могу дать тебе радушные советы.
Сейчас я не знаю, куда приклонить головы: Панфилов, светоч моей жизни, умирает от чахотки*.
* (Панфилов, светоч моей жизни, умирает от чахотки.- Г. А. Панфилов умер 25 февраля 1914 года.)
Жду ответа, хотя бы отрицательного, - иначе с твоей стороны неблагородно.
Москва. Пятницкая ул. Типолитография Сытина. Корректорская.
Жду до 16.
12
<Москва, начало 1914 г.>
Маня! Я не понимаю тебя. Или ты хочешь порвать между нами все, что до сих пор было свято сохраняемо на груди моей? Я писал тебе и добрые, и, наконец, злые письма, но ответа все нет и нет. Но неужели ты мне так и не скажешь? Или, может быть, тебе неинтересно продолжать что-либо со мной, тогда я перестану писать тебе что-либо.
Так как я тебя сейчас смутно представляю, то я прошу у тебя твою фотографию. Я тебе ее пришлю обратно, если она нужна. Если ты не считаешь нужным присылать мне, то перешли мне мои письма и карточки по почте наложенным платежом. Я здесь заплачу за пересылку.
В ожидании того или другого ответа
С Анютой я больше незнаком. Я послал ей ругательное и едкое письмо, в котором поставил крест всему*.
* (Я послал ей... письмо... - См. прим. 2 к письму № 9.)
Если мы больше с тобой не сойдемся, то я тебе открою: я печатаюсь под псевдонимом "Метеор", хотя в журнале "Мирок" стоит "Есенин".*
* (Публикации произведений Есенина под псевдонимом "Метеор" пока не обнаружены; в московском журнале "Мирок" было опубликовано его стихотворение "Береза" за другим псевдонимом - "Аристон" ("Мирок", 1914, кн. 1, январь, стр. 10). В следующем, февральском, номере этого же журнала уже за подписью Есенина были опубликованы его стихотворения "Воробышки" и "Пороша".)
13
<Москва, начало 1914 г.>
Читаю твое письмо и, право, удивляюсь. Где же у тебя бывают мысли в то время, когда ты пишешь? Или витают под облаками? То ты пишешь, что не можешь дать своей фотографии, потому что вряд ли мы увидимся, то ссылаешься на то, что надо продолжить. Ты называешь меня ребенком, но - увы! - я уже не такой ребенок, как ты думаешь, меня жизнь достаточно пощелкала, особенно за этот год. Мало ли какие были у меня тяжелые минуты, когда к сознанию являлась мысль: да стоит ли жить? Твое письмо меня застало в такой период... Что я говорил, я никогда не прикрашивал, и идеализм* мой действительно был таков, каким представляли его себе люди, - люди понимающие. Я был сплошная идея. Теперь же и половину не осталось того. И это произошло со мной не потому, что я молод и колеблюсь под чужими взглядами, - но нет, я встретил на пути жесткие преграды, и, к сожалению, меня окружали все подлые людишки. Я не доверяюсь ничьему авторитету, я шел по собственному расписанию жизни, но назначенные уроки терпели крах. Постепенно во мне угасла вера в людей, и уже я не такой искренний со всеми. Кто виноват в этом? Конечно, те, которые, подло надевая маску, затрагивали грязными лапами нежные струны моей души. Теперь во мне только еще сомнения в ничтожестве человеческой жизни.
* (Слово "идеализм" употребляется здесь Есениным не в философско-терминологическом смысле, а в том значении, в каком употребляли его представители русской социально-эстетической мысли, называя идеалистами независимо настроенную интеллигенцию 30-х годов XIX века.)
Но не думай ты, что я изменил своему народу! Нет! Горе тем, кто пьет кровь моего брата! И горе моему брату, если он обратит свободу, доставленную ему кровью борцов идей и титанов труда, во зло ближнего, - и его настигнет карающая рука за неправду. Это я говорю в частности, вообще же я - против всякого насилия и суда. Человек никогда ничего не делает плохого; он только ошибается, а это свойственно ему.
Во мне все (время. - Ред.) сомнения, но не думай, чтоб я из них извлекал выгоду; я положительно от себя отказался, и если кому-нибудь нужна моя жизнь, то- пожалуйста, готов к услугам, но только с предупреждением : она не из завидных.
Любить безумно я никого еще не любил, хотя влюбился бы уже давно, но ты все-таки стоишь у дверей моего сердца. Но, откровенно говоря, эта вся наша переписка,- игра, в которой лежат догадки,- да стоит ли она свеч? Я еще вполне не доверяюсь тебе, но все-таки тебя люблю за все, как ни смешно, что это "все" - в письмах. Но моя душа как будто переживает те счастливые минуты, про которые ты мне говоришь из своего далека.
На курсы я тебе советую поступить; здесь ты узнаешь, какие нужно носить чулки, чтоб нравиться мужчинам, и как строить глазки и кокетливо подводить их под орбиты. Потом можешь скоро на танцевальных вечерах (в ногах - твоя душа) сойтись с любым студентом и составишь себе прекрасную партию, и будешь жить ты припеваючи. Пойдут дети, вырастите какого-нибудь подлеца и будете радоваться, какие получает он большие деньги, которые стоят жизни бедняков.
Вот все, что я могу тебе сказать о твоих планах, а рельефный тип для тебя всего этого - "СИМА". Я же не намерен никуда поступать*, так как наука нашего времени - ложь и преступление. А читать,- я и так свой кругозор знаний расширяю анализом под (посредством? - Ред.) собственным наблюдением. Мне нужно себя, а не другого, напичканного чужими суждениями.
* (Я же не намерен никуда поступать, так как наука нашего бремени - ложь и преступление - В сентябре 1913 года Есенин поступил вольнослушателем в Народный университет им. А. Л. Шанявского, где учился около полутора лет.)
Печатать я свои произведения отложил со второй корректуры, т. е. они напечатаны, но не вышли в свет, так как я решил ждать критика Измайлова*, который находится за границей. Сейчас в Москве из литераторов никого нет. Слыхала ль ты про поэта Белоусова**, ДРУГ Дрожжина***. Я с ним знаком, и он находит, что у меня талант, и талант истинный. Я тебе это говорю не из тщеславия, а так, как любимому человеку. Он еще кой-что говорил мне, но это пусть будет при мне; может быть, покажется странным и даже сверхъестественным.
* (Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921) - русский писатель, критик и пародист.)
** (Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930) - русский поэт, после смерти И. З. Сурикова (1880) - один из руководителей Суриковского литературно-музыкального кружка, членом которого с 1914 года был Есенин.)
*** (Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848-1930) - русский поэт-демократ.)
Если письмо мое поразит тебя колкостями, то я в таком состоянии, когда мне все на свете постыло,- и сам себе не мил, и даже ты не хороша.
Верно, Маня, мало в тебе соков, из которых можно было бы выжать кой-что полезное, а это я говорю на основании твоих слов: "Танцы - душа моя!" Бедная, душу-то ты схоронила в ноги!
Зачем, когда так много хороша иначе.
Как-нибудь пришлю тебе стихотворение "Метеора"*, написанное мною недавно. По отзывам других - очень хорошее, но мне не нравится.
* (Метеор - один из псевдонимов Есенина, которым он подписывал свои юношеские произведения: см. прим. 2 к письму № 12.)
Фотографию я тебя не обязываю давать; как хочешь, а просить я не буду. Я смело решил отпарировать удары судьбы. И даже если ты со мной прикончишь неначинающийся роман, вынесу без боли и сожаления. На все - удел терпения.
14
/Москва, начало 1914 г./
Благодарю!
Карточку не намерен задерживать и возвращаю сейчас же по твоему требованию.
Писать мне нет времени, да и при том я уже больше и не знаю что. Относительно свидания я тоже не могу ничего сказать,- может быть, ты и не ошибаешься, что "никогда", может быть!
Если не понравится тон письма, то я писал параллельно твоему.
Сердце тоскою томится устало,- Много в нем правды, да радости мало...*
* (Сердце тоскою томится устало, Много в нем правды, да радости мало...- По-видимому, строки из несохранившегося стихотворения самого Есенина; эти же строки приведены Есениным в одном из писем к Г. А. Панфилову, причем первая строка читается несколько иначе: "Злобою сердце томиться устало..." (V, 42).)
Пусть и несвязно следует дальше стихотворение Надсона:
Умерла моя муза -
недолго она
Озаряла мои одинокие дни!
Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила темна*.
* ("Умерла моя муза..." - Цитата из стихотворения С. Я. Надсона "Умерла моя муза!.. Недолго она..." (1885) с несколько измененной графикой и пунктуацией. Цитируемые поэтом строки читаются у Надсона так:
Умерла моя муза!., недолго она Озаряла мои одинокие дни; Облетели цветы, догорели огни, Непроглядная ночь, как могила темна!..
Последние две строчки Есенин неоднократно цитировал и в письмах к Г. А. Панфилову.
)
Письмо твое меня огорчило; если действительно нет искренности,- так к чему же надевать маску лицемерия? Лучше уж разом нанести удар, чем медленно точить острые язвы.
Я думаю, это крайне неблагородно.
Продолжайте дальше!
Если тебе нравится эта игра, то я говорю, что так делать постыдно; если ты не чувствуешь боли, то, по крайней мере, я говорю, что мне больно.
Я и так не видал просвета от своих страданий, и неужели ты намерена так подло меня мучить? Я пошел к тебе с открытою душой, а ты мне подставила спину, - но я не хочу, я и так без тебя истомился.
Довольно! Довольно!
15
/Москва, осень 1914 г./
Милостивая государыня, Мария Парменовна!
Когда-то, на заре моих глупых дней, были написаны мною к Вам письма маленького пажа или влюбленного мальчика.
Теперь иронически скажу, что я уже не мальчик, и условия,- любовные и будничные,- у меня другие. В силу этого я прошу Вас или даже требую (так как я логически прав) прислать мне мои письма обратно. Если Вы заглядываете часто в свое будущее, то понимаете, что это необходимо.
Вы знаете, что (если.- Ред.) между нами ничего нет и не было, то глупо и хранить глупые письма. Да при этом я могу искренно добавить, что хранить письма такого человека, как я,- не достойно уважения. Мое Я - это позор личности. Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту,- и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека,- у меня. Смейтесь, но для Вас (вообще для людей) это - тяжелая драма.
Я разоблачил человека и показываю независимость творения.
Если я буду гений, то вместе с этим буду /и/ поганый человек. Это еще не эпитафия.
1. Таланта у меня нет, я только бегал за ним.
2. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться,- подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь. Значит, я еще больше мерзкий человек.
Вот когда я открыл Вам глаза. Вы меня еще не знали,- теперь смотрите! И если Выскажете: "Подлец!"- для меня это лучшая награда. Вы скажете истину.
Да! Вот каков я хлюст! Но ведь много и не досказано, но пока оставим без досказа...
Хулу над миром я поставлю И соблазняя - соблазню.
Эта сологубовщина - мой девиз.
Вот, Мария Парменовна, какой я человек. Не храните мои письма, а топчите. Я говорю истинно. Но так как есть литературные права собственности, я прошу их у Вас обратно. Требую! А то ведь я, гадкий человек, могу и Вам сделать пакость. Но пока, чтобы Вы не пострадали,- верните мне немедленно. Но не врите что-нибудь. Будьте истинными, как я в подлости. Чтоб такой гадкий человек в рассказах или сказках, как я, не обратился в пугало,- да будет имя мое для Вас забыто!!!
Адрес для посылки:
Москва, Миусы, университет Шанявского, студ. 2 курса Есенину*.
* (Адрес для посылки...- См. прим. 2 к письму № 13.)
16
/Петроград, около 15 марта 1915 г./
Мария Парменовна!
Извините, что обращаюсь к Вам со странной просьбой. Голубушка, будьте добры написать мне побольше частушек*. Только самых новых. Пожалуйста. Сообщите, можете ли Вы это сделать. Поскорее только.
* (...будьте добры написать мне побольше частушек.- Эта просьба Есенина связана, по-видимому, с предполагаемой им подготовкой к изданию сборника фольклорных записей "Рязанские прибаски, канавушки и страдания".)
Адрес: Петроград, Преображенская ул., д. 42-а, кв. 12.
Сергею Есенину.
17
(Петроград, 24 апреля 1915 г.)
Мария Парменовна!
В Рязани я буду числа 14 мая. Мне нужно на призыв. Напишите мне лучше к 7 мая относительно сказанного*.
* (Напишите мне лучше к 7 мая относительно сказанного.- Имеется в виду, по-видимому, высказанная в предыдущем (№ 16) письме просьба записать "побольше частушек".)
Я не знаю расписаний поезда, ни самого вокзала. Был и не припомню. Сегодня я уезжаю в Москву*. К 1-му буду дома, в Константинове. Итак, сообщите.
* (Сегодня я уезжаю в Москву.- Документальные данные позволяют утверждать, что 24 апреля 1915 года Есенин не уехал: 25 апреля он был еще в Петрограде, где получил в тот день в редакции журнала "Лукоморье" 24 руб. - "аванс в счет гонорара". По свидетельству В. С. Чернявского, Есенин уехал в Москву 29 апреля 1915 года. Подробней об этом см. в нашей статье "Литературная хроника "Сергей Есенин" ("Русская литература", 1971, № 4, стр. 210); см. также наши "Материалы к биографии С. А. Есенина" (наст, сборника).)
Примечания
Письма Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой относятся к числу немногих документальных материалов, в известной мере раскрывающих сложный процесс формирования мировоззрения молодого поэта, его социально-эстетических взглядов и нравственных убеждений, и уже только это обусловливает их ценность как для исследователей, так и для широкого круга читателей. Поэт делится с М. Бальзамовой своими самыми сокровенными мыслями, буквально раскрывает перед ней тайники своей души, анализируя переполняющее его половодье чувств и нисколько не опасаясь при этом быть предельно откровенным. Характерно, однако, что сосредоточенность поэта на выявлении своих душевных переживаний, на раскрытии своего внутреннего мира ни в коей мере не сопряжена с внутренней замкнутостью в самом себе; поэт не изолирован от окружающей действительности, напротив, его переживания и размышления преломляются через нее, они обусловлены ею. И здесь отчетливо проявилась одна из важнейших особенностей творчества Сергея Есенина: с юношеских лет в его сознании глубоко личное, интимное, теснейшим образом переплелось с общественным. Читая письма, мы видим, как так называемая лирическая тема - тема любви, дружбы, верности и т. д.- совершенно естественно сливается с темой глубоко социальной, как органично переплетается она у молодого поэта с размышлениями о том, как жить, как противостоять мелочности, пошлости и духовной скудости окружающей среды, с мыслями о глубоких противоречиях в жизни общества, об общественном назначении поэта.
Являясь важным источником познания внутреннего мира поэта в период формирования его мировоззрения, раскрывая до некоторой степени истоки художественного мышления Есенина и показывая социально-психологическую обусловленность раннего творчества поэта, письма Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой представляют несомненный интерес и в другом отношении. Большое значение для исследователей имеют содержащиеся в них сведения, которые, будучи сопоставлены с уже известными из других источников (в частности, из писем поэта к Г. А. Панфилову) материалами, позволяют уточнить ряд фактов биографии Есенина, точнее, чем это делалось прежде, датировать некоторые его письма. Так, например, предположительно датируемое в собрании сочинений поэта июнем - июлем 1912 года письмо Есенина к Г. А. Панфилову, в котором он передает "поклон" соученику по Спас-Клепиковской второклассной учительской школе Д. Пырикову, на основании письма № 7 к М. П. Бальзамовой следует датировать началом июня 1912 года, так как из этого письма становится известно, что Д. Пыриков умер в июне 1912 года.
Всего к настоящему времени обнаружено семнадцать писем и записок Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой и тринадцать конвертов к ним, которые мы перечисляем в хронологическом (по почтовым штемпелям) порядке:
1. Рязань. Троицкая слобода, кв. М. Н. Савинской. Марии Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 16.9.12" - 16 сентября 1912 года;
2. Рязань. Хлебная ул., д. Ивана Фроловича Фролова. В село Калитинку, для учительницы М. П. Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 14.10.12" - 14 октября 1912 года;
3. Рязань. Хлебная ул., дом Ивана Фроловича Фролова. В село Калитинку, учительнице М. П. Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 21.10.12" - 21 октября 1912 года;
4. Рязань. Хлебная ул., д. Ивана Фрол. Фролова. Передать в село Калитинку для учительницы Марии П. Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 26.1.13" - 26 января 1913 года;
5. Рязань. Хлебная улица. Д. И. Ф. Фролова. Передать в село Калитинку. Е. В. Б. учительнице Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 9.2.13" - 9 февраля 1913 года;
6. Рязань. Хлебная улица, д. Ивана Фроловича Фролова. Передать Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 1.6.13" - 1 июня 1913 года;
7. Рязань. Хлебная улица, дом Ивана Фроловича Фролова. Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 8.6.13" - 8 июня 1913 года;
8. Рязань. Хлебная улица, д. Ивана Фроловича Фролова. Передать г-же Бальзамовой Марии Парменовне. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 12.6.13" - 12 июня 1913 года;
9. Рязань. Хлебная ул., д. И. Ф. Фролова, для Е. В. Б. Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт. отдел., 20.6.13" - 20 июня 1913 года;
10. Рязань. Хлебная ул., д. Ив. Ф. Фролова. Марии П. Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 22.6.13" - 22 июня 1913 года;
11. Рязань. Хлебная ул., д. И. Ф. Фролова. В село Калитинку. Учительнице Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, б, 10.12.13" - 10 декабря 1913 года;
12. Ст. Рыбное Московск-Казанск. ж. д. Село Мошены. Е. В. Б. Учительнице Марии Парменовне Бальзамовой. (Без штемпеля; очевидно, конец 1914 года);
13. Рязань. Троицкая слобода, диакону Бальзамову. Для г-жи М. П. Бальзамовой. Штемпель: "Петроград... (нрзб.- Ред.); Рязань, 17.3.15" - 17 марта 1915 года.
Кроме того, два письма (№№ 10, 17) написаны Есениным на почтовых открытках, имеющих следующие адреса и штемпеля:
1. (5 а). Рязань. Троицкая слобода. В квартиру с. Диакона Бальзамова. Г-же Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Москва, 54-е гор. почт, отдел., 29.5.13"-29 мая 1913 года; "Рязань, п. 30.5.13" - 30 мая 1913 года,- письмо № 10;
2. (13 а). Рязань. Троицкая слобода, квартира диакона Бальзамова. Марии Парменовне Бальзамовой. Штемпель: "Петроград, 24.4.15.22" - 24 апреля 1915 года, 22 часа,- письмо № 17.
К сожалению, ни одно из писем не имеет авторской датировки, поэтому о времени их написания можно судить лишь по некоторым косвенным данным, которых порой явно недостаточно для убедительной аргументации в пользу той или иной датировки. И если письма, написанные на открытках, можно датировать по имеющимся почтовым штемпелям, то установить время и даже простую последовательность написания остальных писем пока что невозможно. Для этого необходимы дальнейшие разыскания документальных материалов, относящихся к этому периоду жизни поэта. Большую помощь несомненно окажет в этом и публикация сохранившихся писем Есенина к А. А. Сардановской (см. об этом: А. Миронов. Письма Сергея Есенина в Дединове.- "По ленинскому пути", Луховицы, Моск. обл., 1971, 15 июня). Однако, поскольку мы не располагаем всей перепиской Есенина с Бальзамовой, нельзя исходить при датировке писем из штемпелей сохранившихся конвертов, как это делают при частичной публикации текстов писем Д. Коновалов (журнал "Москва", 1969, № 1, стр. 213-220) и В. Белоусов (газета "Ленинское знамя", г. Электросталь, Моск. обл., 1970, № 123, 15 октября) и (журнал "Сельская молодежь", 1971, № 3, стр. 60-61), уверенно утверждающий: "Уезжая, Бальзамова оставила Есенину в Константинове письмо, на которое поэт ответил 12 сентября 1912 года уже из Москвы. Устроившись, он прислал ей 14 октября того же года второе письмо, с адресом для постоянной переписки". Писем было, несомненно, значительно больше (об этом свидетельствуют не только цитируемые во вступительной статье Д. Коновалова воспоминания В. И. Ильиной, но и тексты сохранившихся писем), и не исключено, что значительная часть имеющихся сейчас в распоряжении исследователей конвертов относится как раз к тем письмам, тексты которых отсутствуют. Бесспорно, например, что между письмами № 1 и 2 были другие письма (или, по крайней мере, одно письмо), и к текстам каких писем (сохранившихся или утраченных) относятся первые два конверта,- неизвестно. Ошибочность распределения писем по конвертам в ряде случаев совершенно очевидна даже при беглом знакомстве с текстом и сличении почерка в письме и на конверте. Именно этим объясняется отсутствие в данной публикации точных датировок писем, которые даны при частичной публикации текстов Д. Коноваловым и В. Белоусовым.
Не менее трудно, однако, установить и простую последовательность написания писем, поскольку не все они имеются в нашем распоряжении. Лишь между письмами № 7 и № 8 легко прослеживается взаимосвязь, тогда как во всех остальных случаях установить ее с достаточной определенностью пока что не представляется возможным. Некоторую помощь в этом оказывают письма поэта к Г. А. Панфилову, однако они, к сожалению, также не датированы поэтом и атрибуция их - задача чрезвычайно сложная, еще ждущая своего разрешения (датировка этих писем комментаторами собрания сочинений поэта и автором литературной хроники "Сергей Есенин" В. Белоусовым не представляется убедительной); поэтому содержащиеся в них сведения можно использовать лишь в очень ограниченной мере. Уточнению датировки и последовательности написания способствовали бы, по-видимому, сохранившиеся письма Есенина к А. А. Сардановской, но они еще не опубликованы и тексты их недоступны нам.
Принятые в настоящей публикации последовательность написания и датировка писем Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой, таким образом, являются приблизительными, ориентировочными и не претендующими на окончательное решение вопроса; в дальнейшем при обнаружении новых материалов, относящихся к этому периоду, они могут и должны быть уточнены. При атрибуции писем мы исходили, во-первых, из их содержания, во-вторых, из сопоставления их с другими известными нам письмами поэта того времени, в-третьих, из их графики: группировали письма по особенностям написания поэтом ряда характерных букв ("Р" прописное, "р" строчное, "М" прописное, "з" строчное и "т" строчное), встречающихся в текстах писем и на конвертах, и, установив по последним характер эволюции в написании этих букв, расположили в соответствии с этим все письма. Не всегда, правда, подобные данные позволяют сделать более или менее определенный вывод, однако в ряде случаев они все же дают возможность установить некоторую закономерность в последовательности написания писем и определить хронологически недалеко отстоящие друг от друга тексты. Так, например, особенности орфографии совершенно очевидно свидетельствуют о том, что письма № 4 и № 5 написаны в один и тот же период (характер написания в них названных букв иной, чем во всех предыдущих и последующих письмах).
Большая часть писем Сергея Есенина к М. П. Бальзамовой опубликована к настоящему времени со значительными сокращениями (письма №№ 1, 3, 4, 6, 9, 13, 15) или с неточным и неверным прочтением ряда мест (письма №№ 5, 7, 8, 14). В данной публикации тексты всех писем печатаются полностью, с исправлением лишь явных ошибок в написании отдельных слов. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского правописания, но сохранены все обороты, в том числе и не вполне верные с точки зрения современной грамматики и стилистики, характеризующие язык и стиль автора писем. Пропущенные слова и окончания недописанных слов даны в скобках.
Тексты писем №№ 1-16 печатаются по фотокопиям, предоставленным Д. А. Коноваловым Рукописному отделу Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (оригиналы писем хранятся сейчас в Рязанском областном краеведческом музее); письмо № 17 - по автографу, хранящемуся в Государственном литературном музее (Москва).
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"