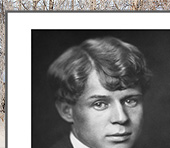


Снова Москва
В Москву Есенин с женой переехали в марте 1918 года. Поселились они в небольшой гостинице на Тверской; там было неуютно и сыро, жили впроголодь, получая скудный продовольственный паек, но усердно трудились. З. Райх была сотрудницей Наркомпрода (позднее она перешла в Наркомат просвещения), Есенин целиком погрузился в издательскую и литературную работу.
В конце мая 1918 года у Есениных родилась дочь Татьяна, почти два года спустя - сын Константин. Но семейная жизнь не ладилась. С женой поэт разошелся еще до рождения второго ребенка.
В Москве Есенин сблизился с группой пролетарских поэтов и, уйдя от семьи, поселился в здании Московского Пролеткульта, бывшем особняке фабриканта Морозова,- там обычно занималась литературная студия, которую посещал Есенин. Вместе с поэтом С. Клычковым он занял в мансарде просторную и несуразную комнату, уставленную сборной мебелью. Оттуда он через некоторое время перешел в другую комнату, светлую и большую, с претенциозной росписью на стенах,- это оказалась бывшая ванная, которая теперь отапливалась печкой-буржуйкой; в этой комнате Есенин жил с поэтом М. Герасимовым, возглавлявшим литературный отдел Московского Пролеткульта. Обедали вместе, иногда целой компанией, в столовой на Арбате. Там же нередко обсуждали организационные и творческие дела.
А дел этих было у Есенина великое множество. В 1918 году он подготовил к печати второй, третий и четвертый сборники своих поэтических произведений ("Голубень", "Преображение" и "Сельский часослов"), в конце того же года написал теоретический трактат "Ключи Марии". Вместе с Герасимовым и Клычковым он вслед за "Кантатой" создал киносценарий "Ревущий зов" (в этой работе участвовала также поэтесса Надежда Павлович).
Много раз выступал Есенин на открытых поэтических вечерах: в бывшем немецком клубе на Софийке (вместе с А. Белым, П. Орешиным и другими), в клубе профсоюза служащих и др. Особенно памятным был вечер "Россия в грозе и буре" в Большом зале Московской консерватории 6 декабря 1920 года. Из поэтов кроме Есенина на вечере выступили Валерий Брюсов, Андрей Белый, Аделина Адалис, Рюрик Ивнев, Борис Пастернак, Илья Эренбург; стихи Александра Блока и других современных поэтов читала артистка Алиса Коонен. Для встреч с читателями и выступлений на литературных вечерах Есенин выезжал в Харьков, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск.
Поэт участвовал во многих организационных и издательских начинаниях, специфических по своему характеру, но необычайно характерных для той бурной эпохи.
Литературная жизнь Москвы била ключом. В жгучей полемике, в спорах, пробивая себе живительный путь новаторства и открытий, рождалась новая, советская литература, самым оперативным отрядом которой была поэзия. Но рождалась она в обстановке голода, лишений, разрухи, гражданской войны.
Не хватало бумаги, бездействовали многие типографии, издавались, и то нерегулярно, считанные журналы. Стихи печатались тоненькими брошюрами на серой, иногда оберточной бумаге, очень малыми тиражами. Многие произведения приходили к читателям изустным путем - на литературных вечерах в авторском исполнении.
Центрами литературной жизни становились маленькие клубы, столовые, кафе, небольшие подвальчики на людных улицах, где можно было выпить чаю (натурального или морковного), кофе из суррогата с сахаром или сахарином, с овсяными лепешками или картофельными пирожками, получить тарелочку кислой капусты с луком, но зато увидеть модную знаменитость, услышать нигде еще не печатавшиеся стихи. Там же проходили диспуты, литературные "чемпионаты", провозглашались эстетические манифесты, скрещивались в жаркой полемике представители враждующих групп и течений, устраивались "литературные суды" с чтением обвинительных актов, допросом свидетелей, прениями сторон, экспертизами, приговорами и т. п. ("Суд над футуристами", "Суд над эпигонами", "Суд над старой литературой"). Процветали кооперативные формы просветительской, издательской и книготорговой деятельности. Есенин с головой ушел в эту увлекательную, бурную, суматошную жизнь.
"Удивительное было время,- пишет Р. Ивнев.- Холод на улице, холод в учреждениях, холод почти во всех домах и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание". Есенин вспоминается автору этих строк "всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринок в глазах, оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный".
Есенин ходил тогда в серой меховой куртке, обвязанный длинным цветным шарфом, спускавшимся почти до пола. В одежде не было ничего вызывающего - она была и модной, и простой. Естественность, доброта сквозили в каждом жесте поэта. В делах он проявлял увлеченность, горячность, любовь к коллективной работе.
Первой его организационной инициативой было создание "писательской коммуны". Спасая себя и друзей от жизни в промерзших домах ("Мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена",- вспоминал он), поэт выхлопотал в Московском Совете ордер на пятикомнатную квартиру в доме; где чудом сохранилось и действовало паровое отопление. В ней кроме Есенина в начале 1919 года поселилось еще несколько писателей и журналистов, их посещало множество друзей, которые приходили согреться, поговорить и поспорить.
Одним из коллективных писательских предприятий, в котором участвовал Есенин, была "Московская трудовая артель художников слова". Организаторами этой артели были также А. Белый, С. Клычков и П. Орешин. У артели были обширные издательские планы, осуществить которые из-за трудностей с типографиями и бумагой удалось лишь частично. Под маркой издательства вышло пять книг Есенина, в том числе второе издание "Радуницы" и "Ключи Марии"; вышел и коллективный сборник "Конница бурь".
С разрешения Московского Совета, поощрявшего кооперативные начинания, Есенин и его друзья открыли на Большой Никитской, рядом с Консерваторией, "Книжную лавку художников слова" (аналогично ей существовали "Лавка писателей", Лавка Союза поэтов, магазин Дворца искусств и т. п.). Работали в ней опытные книжники, но почти ежедневно здесь можно было видеть и Есенина либо за прилавком, либо у стеллажей, либо в верхней комнате с большим круглым столом, креслами и диваном, которая называлась "кабинетом дирекции", а по существу являлась литературным салоном, где встречались писатели и книголюбы.
В лавке кроме новейших изданий продавалась и букинистическая книга - она была предметом особых симпатий поэта. Очень часто можно было застать его тут за чтением редких книг, за просмотром словаря Даля или старинных изданий русской поэзии. Однажды пришел сюда видный московский филолог, и Есенин затеял с ним спор насчет происхождения "Слова о полку Игореве" - одно из старых изданий памятника продавалось в этот день в лавке.
Есенина можно было встретить также в "Кафе поэтов", которое находилось на Тверской улице и занимало помещение бывшего кафе "Домино" (по привычке часто употребляли именно это название). Кафе на Тверской было клубом Всероссийского союза поэтов, и здесь почти ежедневно читали стихи. Афиша, перечисляя поэтов, которые выступят в определенный день (среди них фигурировал и Есенин), сообщала: "Эстрада-столовая открыта ежедневно от 12 до 7 ч., играет оркестр, ежедневно обеды".

С. Есенин и С. Городецкий. 1916 г.
Такова была афиша весны 1919 года. Позднее "эстрада" функционировала и по вечерам; в качестве ужина предлагали "пирожное" (ложка черничного повидла на лепешке из картофеля) и желудевый кофе. На стенах зала - роспись, на столиках под стеклами - отрывки стихов, рисунки и портреты поэтов; рядом с кухней - комната правления Союза поэтов. Клуб, харчевня, место споров и встреч - таково было это популярное в Москве заведение, ярко олицетворявшее то, что Сергей Городецкий в своих воспоминаниях называл "кафейным периодом русской литературы".

С. Есенин. 1919 г.
В "Кафе поэтов" родился имажинизм - литературное течение, сыгравшее в жизни Есенина сложную и, в общем, неблагоприятную роль. Имажинисты отпочковались от поэтического клуба на Тверской и открыли свое кафе "Стойло Пегаса". Вот описание этого кафе, оставленное нам современником:
"Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись художника Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо Есенина в надписях: "Плюйся, ветер, охапками листьев".
Подчеркнуто декадентская обстановка этого заведения отвечала его повседневному быту. Здесь происходили диспуты и поэтические вечера, но репутация "Стойла" складывалась главным образом из литературных скандалов. Тот же современник отмечает "обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания со столиков" при выступлениях ораторов и поэтов (шум этот обычно прекращался, когда выступал Есенин). Атмосфера богемы, возможность присутствовать при пикантной стычке или скандальном происшествии привлекали сюда совершенно случайную публику не только из мещанско-обывательской, но также из нэповско-буржуазной среды. Дмитрий Фурманов, побывав в "Стойле Пегаса" после своего приезда из армии в Москву в 1921 году, назвал его "стойлом буржуазных сынков".
Имажинисты представляли собой очень малочисленную и совсем не влиятельную группу, в которую входили эпигоны декадентских литературных течений: Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Александр Кусиков и другие. Ни своими эстетическими идеями, сформулированными в претенциозных декларациях, ни стихами они не могли привлечь к себе внимание публики. Достичь этого они пытались своей экстравагантной внешностью: щеголяли по Москве в черных лакированных цилиндрах, в смокингах, с тросточками в руках, как английские денди (напомним, что за несколько лет до них, преследуя те же цели, появлялись в желтых кофтах с размалеванными лицами футуристы). Прославились они также вызывающим характером своих выступлений, дававших материал для газетной хроники происшествий. Есенина вовлек в эту среду Мариенгоф, с которым он познакомился еще в 1918 году, задолго до образования группы. Когда распалась "писательская коммуна" и Есенин остался без крова, Мариенгоф предложил ему поселиться у себя. В коммунальной квартире на третьем этаже он занимал комнату, и Есенин переехал к нему. Жили в холоде; ртутный столбик падал, случалось, ниже нуля; когда приходили с улицы, снег на шубах не таял; временами топили буржуйку, пили чай с сахарином. Комната была завалена книгами, едва выгораживали угол для работы. Одолевали гости, в которых никогда не было недостатка,- пришлось, в конце концов, на дверях квартиры прикрепить объявление: "Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить".
Первые их беседы касались роли образа в искусстве. Мариенгоф проповедовал культ "небывалого" образа как единственной сути поэзии. В замысловатости, непохожести, оригинальности образа, формируемого независимо от содержания, от авторской мысли, видел он значение и сущность искусства, Есенина, по творческой его природе, всегда тянуло к яркой словесной живописи, к затейливым построениям речи. Заметив поначалу лишь эту сторону дела, он счел имажинистов соратниками по искусству. "Назревшая потребность в проведении в жизнь силы образа,- признавался он,- натолкнула нас на необходимость опубликования манифеста имажинистов". В декларации, написанной Шершеневичем и подписанной членами группы, в том числе и Есениным, говорилось: "Единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов".
Отсюда, от слова "образ" (по-французски - "имаж"), и произошло название группы. Есенин не придал значения тому, что в декларации пренебрежительно говорилось о содержании в искусстве; имажинисты осторожно прикрыли этот тезис требованием, чтобы "тема, содержание" не выпирали, "как грыжа", из произведений искусства.
Однако члены группы всю свою эстетическую программу строили именно на этом. Они стали требовать очищения образа от идеи, независимости искусства от "быта" (т. е. от действительности). Основной пункт программы Шершеневич выразил формулой: "Образ как самоцель". "Слово,- писал он,- требует освобождения от идеи... Поедание образом смысла - вот путь развития поэтического слова". "Искусство есть форма,- вторил ему Мариенгоф. - Содержание - одна из частей формы". Кроме аполитизма и формализма, члены группы проповедовали еще тезис о безнациональном характере искусства.
Звучало все это вызывающе, но не ново: многие предшественники имажинистов - декаденты дореволюционных времен - уже "освобождали" поэзию от идейного смысла, лишая ее жизни и обрекая на увядание. Есенин быстро убедился в беспринципности и беспочвенности имажинистской программы. Критике основных ее положений он посвятил специальную статью "Быт и искусство", написанную весной 1921 года.
"Собратья мои,- констатировал он,- увлекались зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ это уже все.
Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный...
Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства".
Особенно чужды были Есенину анархические и космополитические настроения участников группы; в этих заблуждениях поэт видел один из источников формалистических исканий. "У собратьев моих,- писал он,- нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния".
Что же касается особой системы образов, за которую ратовали имажинисты, то на поверку оказалось, что она вносила в поэтический язык холод искусственности, нарочитую усложненность. Замысловатые метафоры, нанизанные одна на другую, превращались в "самовитую" речь, затемняя смысл поэтического произведения и приглушая авторское чувство. Достаточно прочесть "Кобыльи корабли" - произведение, написанное Есениным в разгар его имажинистских увлечений,- чтобы убедиться в этом:
Если волк на звезду завыл, Значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, Черные паруса воронов. Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; Облетает под ржанье бурь Черепов златохвойный сад.
Позднее Есенин отмечал: "Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом".
Победили в конечном счете принципы жизненного, правдивого образа, а не шутовские словесные упражнения кучки эстетов. Имажинизм неспособен был убить в поэзии Есенина реалистическое начало, но шумиха, которую сеяли вокруг себя участники группы, насаждавшаяся ими богема оказали на него дурное влияние. Если поэт довольно быстро разобрался в идейной неполноценности, в творческой бесплодности группы, то разорвать с нею в быту оказалось нелегко. Он втянулся в повседневную жизнь этой группы, пропадал в "Стойле Пегаса", участвовал в "дружеских" попойках, хотя раньше не прикасался к спиртному и не любил пьяных компаний.
Все это пагубным образом отразилось на его творчестве. В лирике Есенина возникли кабацкие, "разгульные", озорные мотивы. Герой его стихов все чаще выступал в образе ночного гуляки, сорванца, повесы, скандалиста:
Я московский озорной гуляка. По всему тверскому околотку В переулках каждая собака Знает мою легкую походку.
Или:
Низкий дом без меня ссутулится, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть, знать, судил мне бог.
Так возник цикл с характерным названием "Москва кабацкая". Стихи этого цикла отличаются нарочито вульгарной фразеологией ("каждая собака знает", "провоняю я редькой и луком", "если раньше мне били в морду"). Надрывные интонации, однообразные мотивы пьяной удали, сменяемой смертельной тоской,- все это свидетельствовало о заметных утратах в художественном творчестве Есенина. Не стало в ней той радуги красок, которою отличались его прежние стихи,- на смену им пришли унылые пейзажи ночного города, наблюдаемого глазами потерянного человека: кривые переулки, изогнутые улицы, едва светящиеся в тумане фонари Кабаков... Сердечная искренность, глубокая эмоциональность лирических стихов Есенина уступили место обнаженной чувствительности, жалобной напевности цыганского романса.
У Есенина нередко вырывались слова ненависти к окружавшему его поэтическому "сброду". Характерна в этом смысле концовка стихотворения "Все живое особой метой...":
И уже говорю я не маме, А в чужой и хохочущий сброд: "Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет!"
Есенин стремился вырваться из гнилой атмосферы поэтических кабаков. Но этому мешали его бытовая неустроенность, мягкость характера, а более всего - назойливые домогания непрошеных друзей. Поэт пытался сменить жилье, но где бы он ни поселился, его настигали любители шумных и не всегда трезвых компаний. Это отравляло его душу, мешало работать. "Живу я как-то по-бивуачному,- жаловался он в одном из писем,- без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко".
Самым надежным средством избавления от назойливых спутников было исчезновение, хотя бы на время, из Москвы. И Есенин прибег к этому средству, когда работал над драматической поэмой "Пугачев". Изучив документальные и книжные источники о пугачевском движении, он пришел к выводу, что нужно посетить Среднюю Азию и Поволжье - места, откуда Пугачев вел свою армию на Москву. Места эти давно манили его к себе.
В апреле, 1921 года поэт выехал из Москвы в Самару, затем в Ташкент. Далее он направился в Самарканд, посетил Бухару и вернулся в Ташкент. Ездил он со своим другом, ответственным работником Наркомата путей сообщения, имевшим служебный вагон.
В этом маленьком, синего цвета, с открытым тамбуром салон-вагоне, оставшемся еще от царских времен, когда в нем разъезжали сановники и министры, поэт и жил все время путешествия (длившегося около двух месяцев), и работал. Поездка оказалась весьма продуктивной в творческом отношении. На обратном пути Есенин уже заканчивал работу над поэмой, которая в значительной своей части была написана в пути.
По возвращении в Москву он читал "Пугачева" в Доме печати, потом в Театре РСФСР-1 (где Мейерхольд собирался поэму ставить на сцене), в клубе "Литературного особняка", а отрывки из поэмы - бесчисленное количество раз на публичных площадках. Это было одно из любимых произведений поэта, и оно по праву принадлежит к числу его лучших творений - тем более удивительное по чистоте красок, по эмоциональности и силе звучания, что создавалось в один из самых тяжелых периодов его жизни.
Более всего любил Есенин читать монолог Хлопуши (сподвижника Пугачева) и заключительную сцену. В устах поэта слова его героев звучали изумительно искренне, с невероятной силой. М. Горький, прослушав отрывки в исполнении автора (было это при встрече, о которой мы еще скажем), писал: "Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью".
В названных выше фрагментах сосредоточены основные мотивы произведения: в монологе Хлопуши - "буйство и удаль" крестьянской войны, народная мечта о герое-освободителе, в заключительных словах Пугачева - трагедия неудавшегося восстания, горечь прощания с друзьями по борьбе. Ощущение драматизма судьбы Пугачева усилено его живописной, взволнованной речью, напоминающей образы и интонации есенинской лирики:.
Где ж, ты? Где ж ты, былая мощь? Хочешь встать - и рукою не можешь двинуться! Юность, юность! Как майская ночь, Отзвенела ты черемухой в степной провинции. Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном, Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц, Золотою известкой над низеньким домом Брызжет широкий и теплый месяц. Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух, В рваные ноздри пылью чихнет околица. И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг, Бежит колокольчик, пока за горой не расколется. Боже мой! Неужели пришла пора? Неужель под душой так же падаешь, как под ношей? А казалось... казалось еще вчера... Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
В поэме ясно переданы настроения гнева, которыми были охвачены участники восстания, и чувства тревоги за его судьбу. Но исторические и социальные корни движения выявлены слабо, а причины его неудачи не вскрыты. Объясняется это тем, что Есенин стремился не столько к полноте исторической правды, сколько к выразительности лирического звучания темы, выдвигая на первый план драму самого Пугачева - безграничную преданность народным интересам и великое переживание постигшей его неудачи. Бросаются в глаза и особенности художественного языка поэмы, кое-где близкие к тем приемам усложненного построения образа, которые остались от имажинистских увлечений поэта. В устах таких персонажей, как Творогов, Крямин и другие, т. е. людей, изменивших пугачевскому делу, эта искусная, затейливая поэтичность звучит противоестественно и ненужно.
Таковы были потери художника на пути создания революционного эпоса - на том пути, который принесет ему в будущем немало побед. Но даже и при этих потерях драматическая поэма о народном вожде закрепила место Есенина в рядах революционного искусства первых лет Советской эпохи - в рядах, из которых его не могли выбить никакие "стойла" анархиствующей и декадентствующей литературной богемы.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"