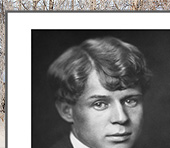


Крестьянский уклон
Я люблю родину. Я очень люблю Родину!
В первых же послеоктябрьских произведениях Есенин искренне, радостно, горячо приветствовал революцию, давшую крестьянам землю и свободу. Однако осмыслить глубоко, сознательно все значение исторических и социальных перемен в жизни народа, особенно русской деревни, связанных с борьбой за торжество идей Великого Октября, он, естественно, смог далеко не сразу.
Интервенция, контрреволюция, блокада, голод, холод обрушились на молодую республику. В жестоких схватках с врагом, ценой неимоверных усилий прокладывал пролетариат России под руководством Коммунистической партии путь в социалистическое будущее. Революция требовала напряжения всех сил, железной, сознательной дисциплины, подчинения всей жизни страны единой цели - победить врага. Чтобы спасти от голода рабочих в городах и дать продовольствие фронту, на учет были взяты все излишки продуктов у крестьян, установлена продразверстка и запрещена частная торговля хлебом. Политика военного коммунизма была временным явлением, вызванным войной и разрухой народного хозяйства. Она позволила пролетариату России защитить завоевания Октября, в том числе и полученную крестьянами землю. Введение продразверстки и обострение в связи с этим настороженно-недоверчивого (исторически сложившегося) отношения деревни к городу, поиск частью трудового крестьянства "третьего пути" в революции (вспомним Григория Мелехова), борьба в сознании крестьянина-труженика индивидуалистических собственнических устремлений с новыми взглядами на жизнь - все это находит свое преломление и в творчестве Есенина.
Поэт поначалу односторонне воспринимает период военного коммунизма, ему трудно еще понять, что противоречия этого времени будут быстро преодолеваться развитием самой новой действительности.
Именно в этот сложный период классовых битв, требовавших от художника особенно четкой и ясной идейной позиции, и проявился наиболее ощутимо "крестьянский уклон" Есенина. Не следует думать, что этот "уклон" - следствие только субъективных сторон мировоззрения и творчества поэта. В произведениях Есенина прежде всего отражены те конкретные, объективные противоречия, которые были характерны для русского крестьянства в период пролетарской революции.
Россия! Сердцу милый край! Душа сжимается от боли.
"Мне очень грустно сейчас, - пишет Есенин в 1920 году, - что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал..." Рухнули утопические мечты поэта о социализме как "мужицком рае" на земле, еще недавно столь вдохновенно воспетые им в "Инонии".
Это свое мироощущение с особой лирической взволнованностью и драматизмом Есенин выразил в поэме "Сорокоуст". Творческая история ее примечательна. Поэма была написана Есениным во время его поездки на юг России в августе 1920 года, написана очень быстро, буквально "с ходу". Один из современников поэта вспоминает: "...в перегоне от "Минеральных до Баку" Есениным написана лучшая из его поэм - "Сорокоуст". Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.
В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.
Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в "Сорокоусте":
Жаль, что в детстве тебя не пришлось Утопить, как ведро в колодце.
В Петровском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.
В "Сорокоусте":
Се изб древенчатый живот Трясет стальная лихорадка!"*
* (Мариенгоф А. О Сергее Есенине. (Б-ка "Огонек"). М., 1926, с. 49-50.)
Может показаться, что все эти "случайные" факты, неожиданно попавшиеся в поле зрения Есенина во время поездки, оказались затем также "случайно" в поэме. На самом деле эти документальные в своей основе факты явились для поэта лишь своеобразным эмоциональным детонатором. Ко времени южной поездки Есенина "Сорокоуст" уже сложился в его поэтической душе и сердце. Все мучительнее встает перед поэтом вопрос: "Куда песет нас рок событий?" Ответить тогда на него было нелегко. Всюду были видны следы войны и разрухи: голодные, опустевшие села, тощие, неухоженные поля, черные паутины трещин на опаленной засухой, мертвой земле...
Трубит, трубит погибельный рог! Как же быть, как же быть теперь нам На измызганных ляжках дорог? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ах, не с того ли за селом Так плачет жалостно гармоника: Таля-ля-ля, тили-ли-гом Висит над белым подоконником. И желтый ветер осенницы Не потому ль, синь рябью тронув, Как будто бы с коней скребницей, Очесывает листья с кленов. Идет, идет он, страшный вестник, Пятой громоздкой чащи ломит. И все сильней тоскуют песни Под лягушиный писк в соломе. О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка, Се изб древенчатый живот Трясет стальная лихорадка!
Особенно тяжело, временами трагически, в 1919-1921 годах переживает поэт революционную ломку старых, патриархальных устоев русской деревни.
Глубокий внутренний смысл имеет в "Сорокоусте" рассказ о том, как паровоз обогнал тонконогого жеребенка. Именно в этой сцене поэма достигает своего кульминационного звучания:
Видели ли вы, Как бежит по степям, В туманах озерных кроясь, Железной ноздрей храпя, На лапах чугунных поезд? А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая к голове, Скачет красногривый жеребенок? Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хорошо им стоять и смотреть, Красить рты в жестяных поцелуях, - Только мне, как псаломщику, петь Над родимой страной аллилуйя.
Чью душу и сердце не заберет в полон романтически-прекрасный образ красногривого жеребенка, трагически-беззащитного перед железной силой века! Могут ли эти стихи, наполненные великой сыновней любовью к родине, ко всему - живому на земле, оставить кого-нибудь равнодушным? Нет! И еще раз - нет!
В этих обжигающих душу стихах с нарастающей эмоциональной силой тревожно звучат раздумья поэта о сохранении в "машинный век" живой красоты неповторимой русской природы.
Неумолим ход времени, ход истории и прогресса, Есенин-поэт чувствует это эмоционально-психологически, глубинно, перспективно, значительно острее многих литераторов своего поколения.
В одном из писем, относящихся к осени 1920 года, он рассказывает: "Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же. Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок-Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого (подчеркнуто мной. - Ю. П.). И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни..."
Да, на глазах у поэта умирала старая, патриархальная Русь. Что придет ей на смену? Что ждет Россию в будущем? И еще: сумеют ли люди будущего сохранить красоту природы? А значит - и себя, и весь род человеческий!
Тревожны раздумья поэта...
Его стихи прежде всего обращены к современникам, к их сердцам и душам, к их разуму, но еще больше они обращены к нам, в завтрашний день человечества.
Истинная поэзия всегда национально-общечеловечна, она всегда с заглядом в будущее. Она вечна и бесконечна, как океан жизни. То, что в ней принадлежит только дню сегодняшнему и особенно - вчерашнему, что без усилий, хорошо видится на поверхности этого океана, - неумолимые волны времени, рано или поздно уносят в прошлое, в небытие. То, что в таком поэтическом океане художественно, философски глубинно, общечеловечно, со временем, "на расстоянии" становится очевидным для всех: либо общей радостью и долгожданным озарением, либо общей болью, тревогой и заботой.
Так и с есенинским "красногривым жеребенком", со стихами поэта, наполненными живой красотой русской природы, которая, по существу, со времен Есенина оказалась беззащитной под "копытами" стального коня века.
В самом деле: кажется, время сняло вопросы, столь драматично прозвучавшие в есенинском "Сорокоусте", особенно в эпизоде с жеребенком.
И да, и - нет!
Судьба патриархальной Руси - решена, притом окончательно и бесповоротно. Она стала Русью Советской, социалистической.
А глубинная проблема "Сорокоуста": сохранения природы - "красногривого жеребенка" - не только осталась, но со временем - заострилась.
Более того, в последние десятилетия она стала вселенско-общечеловеческой.
Сегодня она касается и затрагивает интересы самым непосредственным образом всех и каждого из нас - землян.
О человечество, Куда ты, Куда ты, милое, Идешь? . . . . . . . . Земли Не вечна благодать. Когда далекого потомка - Ты пустишь по миру С котомкой, Ей будет Нечего подать.
Это сказано в наши дни выдающимся современным поэтом Василием Федоровым в его стихотворении "Пророчество", полном сурового драматизма и горькой правды жизни, с которой люди земли встречают свой XXI век.
Вместе с тем ныне со всей очевидностью ясно, что в русской поэзии, еще на заре XX века, опираясь на богатейший опыт отечественной словесности, ее гуманистический пафос, все это, едва ли не одним из первых, глубоко нравственно, философски, по-народному мудро почувствовал и выразил тревожными, дерзкими, взрывчатыми стихами Сергей Есенин.
Вот почему нас продолжает волновать, до спазмы в горле, красногривый есенинский жеребенок. Он будит, будоражит нашу совесть, побуждая каждого из нас к действу в защиту живой красоты природы - этого драгоценнейшего и святого дара Земли - Человеку!
Вот почему стихи о красногривом жеребенке будут, несомненно, волновать и тех, кто придет за нами.
По праву можно сказать: это стихи века. Их пророческий пафос ныне особенно очевиден!
* * *
В ноябре 1920 года Есенин читает свой "Сорокоуст" на вечере в Политехническом музее. Один из литераторов, присутствовавших на этом вечере, рассказывает:
"Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей... Пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов... Выступает Есенин. Начинает свой "Сорокоуст". Уже четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования... Часть публики хлопает, требует, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол...
Брюсов встает и говорит:
"Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последних два или три года".
...Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он... читает свои стихи, читает долго, по обыкновению размахивая руками...
А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы не декламировал "красногривого жеребенка". А потом и в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык "поэт уходящей деревни"*.
* (Розанов И. Есенин о себе и других. М.: Кооп. изд-во писателей "Никитинские субботники", 1926, с. 7-8.)
Сегодня особенно очевидна несостоятельность попыток представить Есенина лишь певцом Руси уходящей. Вместе с тем очевидно и другое: "крестьянский уклон", с которым Есенин воспринял Октябрь, сказался в "Сорокоусте" особенно отчетливо. В этой "маленькой поэме", так же и в "Кобыльих кораблях", "Песне о хлебе", "Исповеди хулигана", стихотворениях "Мир таинственный, мир мой древний...", "Я последний поэт деревни...", "Сторона ль ты моя, сторона..." и др., явственно звучит и неподдельная тревога за судьбы "полевой России", которую, по мнению поэта, готов был прибрать к рукам "железный гость"; и мужицкая стихийная удаль, идущая на крестьянской Руси от разинских и пугачевских времен; и мучительный разлад поэта с самим собой; и боль, с которой Есенин воспринимал тогда ломку старого крестьянского уклада. Все глуше слышны теперь раскаты буслаевской мужицкой удали, мятежного революционного набата, еще так недавно громко раздававшиеся в стихах поэта. И рядом с призывными строками:
Шуми, шуми, реви сильней, Свирепствуй, океан мятежный... -
все чаще появляются теперь строки, полные душевного смятения, тревоги и грусти:
Я последний поэт деревни, Скромен в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез. . . . . . . . . . . . . . . . На тропу голубого поля Скоро выйдет железный гость. Злак овсяный, зарею пролитый, Соберет его черная горсть. . . . . . . . . . . . . . Скоро, скоро часы деревянные! Прохрипят мой двенадцатый час!
Речь здесь идет, конечно, не о физической смерти, а о "гибели" стихов "последнего поэта деревни" под беспощадной пятой города - "железного гостя". И вместе с тем поэт стремится познать смысл происходящего:
О, если б прорасти глазами, Как эти листья, в глубину.
Он сердцем чувствует, что вся его жизнь в песнях, в стихах, что без них нет ему места на земле:
Ах, увял головы моей куст. Засосал меня песенный плен. Осужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм.
И опять поэта гложет тревожная дума: сможет ли он петь по-новому? А если нет? Если "новый с поля придет поэт"? И его "будут юноши петь" и "старцы слушать". Что тогда?
И вся эта сложная гамма чувств проникнута любовью к Родине, которая всегда томила, мучила и жгла чистую душу поэта:
Я люблю родину. Я очень люблю родину! . . . . . . . . . . . Я все такой же, Сердцем я все такой же. Как васильки во ржи, цветут в лице глаза. Стеля стихов злаченые рогожи, Мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи!
Эти есенинские стихи, как и вся его поэзия, по-настоящему гуманистичны. Они наполнены "грустной радостью" бытия даже тогда, когда поэту кажется, что все светлые мечты и надежды - в прошлом. Вспомним одно из самых проникновенных и человечных лирических стихотворений - "Не жалею, не зову, не плачу...", написанное им в 1921 году. Как философски мудры в нем раздумья Есенина о днях быстротекущей жизни, с какой художественной силой выражена в нем любовь к людям, ко всему живому на земле!
Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым, Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дух бродяжий, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь... Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.
Глубочайший лиризм и гуманистический пафос этого стихотворения, весь его "просветленный" эмоциональный настрой идет от великих традиций русской классической литературы.
В своих комментариях С. А. Толстая-Есенина сообщает о примечательном разговоре с поэтом, касающемся творческой истории стихотворения "Не жалею, не зову, не плачу...". Есенин, вспоминает она, рассказывал, "что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в "Мертвых душах" Гоголя. Иногда полушутя прибавлял: "Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь". Несомненно, - замечает С. А. Толстая-Есенина, - что место в "Мертвых душах", о котором говорил Есенин, это начало шестой главы 1-й части, которое заканчивается словами: "...что пробудило в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!"*
* (Толстая-Есенина С. А. Комментарии к стихам Сергея Есенина. Машинопись. Отдел рукописей Государственного Литературного музея.)
* * *
Идейное и художественное развитие поэта по пути реализма, народности, гражданственности в годы революции порой сдерживалось чужеродными влияниями на его творчество, особенно начиная с 1919 года, - влиянием литературной группы имажинистов. "За годы революции, - отмечал Есенин в 1923 году в не завершенной им статье о современной литературе, - когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею".
Рожденная Октябрем, молодая советская литература развивалась и крепла в идейной борьбе с буржуазной, реакционной литературой; одновременно в пору своего становления ей приходилось преодолевать влияние различных (по Существу, мелкобуржуазных) групп и группочек, которые под дымовой завесой своих "революционных" манифестов, деклараций и лозунгов о новом искусстве, по сути дела, пытались протащить в молодое советское искусство чуждые ему буржуазные эстетические теории и оказать свое влияние на творчество художников, вставших на сторону революционного народа. Одной из таких литературных групп и были фактически имажинисты. Организаторы группы (В. Шершеневич и А. Мариенгоф) опубликовали в начале 1919 года "Декларацию"* - своеобразный литературный манифест имажинистов.
* ("Декларация" была напечатана в журн. "Сирена". Воронеж, 1919, № 4-5, 30 января, и одновременно в газ. "Советская страна". М., 1919, № 3, 10.)
Поначалу имажинисты обрушивают в своей "Декларации" гром и молнии на головы "несчастных" футуристов, предают их самой настоящей "анафеме", и можно подумать, что перед нами ревностные защитники подлинного искусства.
"Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью - смерть... забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К чертовой матери всю эту галиматью". И там же: "Истинно говорим вам: никогда еще искусство не было так близко к натурализму и так далеко от реализма, как теперь, в период третичного футуризма". Итак, долой футуризм, а заодно и романтиков, и классиков! А что же взамен?
"42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы.
Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания (!!!) лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов... Образ, и только образ".
Что ж, без образа, яркого, самобытного, неповторимого, нет произведения искусства. Но что значит отчистить форму, то есть образ, "от пыли содержания"? Это чистейшей воды формализм. И мы убеждаемся в этом, читая такие абзацы "Декларации":
"Нам смешно, когда говорят о содержании искусства..."; "Всякое содержание в художественном произведении также глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины..." И наконец: "У нас нет философии. Если кому-нибудь не лень - создайте философию имажинизма..." На самом деле, как это нетрудно заметить, "философия" была: философия безыдейности, открытого противопоставления искусства жизни, действительности. Заметим при этом: имажинистская группа никогда не отличалась единством своих идейно-эстетических взглядов, что обозначилось уже при обсуждении и подписании "Декларации". "Это было сделано не так просто. Мы долго думали, еще больше спорили, и накануне опубликования нашего первого манифеста имажинизма двое из нас отказались подписать его, - вспоминает В. Г. Шершеневич, - и был момент, когда манифест был уже в типографии в наборе, а нас спрашивали, можно ли напечатать наши имена. К нам еще присоединились Г. Якулов, Борис и Николай Эрдман (автор "Мандата"). Мы долго не могли договориться до всего, что нас потом объединило"*. Значительно позднее А. Мариенгоф отмечал в своем "Романе с друзьями": "Декларация не слишком устроила меня и Есенина. Но мы подписали ее. Почему? Вероятно, по легкомыслию молодости"**.
* (Шершеневич В. О друге. - В сб.: Есенин. М.: Работник просвещения, 1926, с. 52.)
** (Мариенгоф А. Роман с друзьями. - Октябрь, 1965, № 10, с. 103.)
Так рассуждал А. Мариенгоф в шестидесятые годы, но тогда, в двадцатых годах, он яростно защищал формалистическую установку имажинистов на полное отрицание содержания в искусстве.
Вскоре после опубликования "Декларации" авторы ее устроили в Политехническом музее шумный вечер стихов и выставку картин имажинистов*. По поводу этого вечера в печати было справедливо замечено, что "новая группа дает слишком мало положительных художественных достижений; снова агитационный бум, широковещательные декларации и манифесты"**.
* (Афиша этого вечера "типична" для имажинистов: "В четверг 3-го апреля выставка стихов и картин имажинистов. 1 отделение. В. Шершеневич: Мы - кто, и кто нас оплевывает. С. Есенин! Кол в живот (футуризм и прочие ветхозаветчики). А. Мариенгоф: Бунт в нас. Г. Якулов: Образ краски (нота имажинистов миру), 2 отделение. Демонстрация картин - Георгия Якулова, Шедунецкого, 2-х Стенбергов, Денисовского, Светлова, Эрдмана - и стихов - С. Есенина: Отелившийся бог. А. Мариенгоф? Выкидыш отчаяния. В. Шершеневич: Кооперативы веселья. 3 отделение. Словопря: бомбы критики, очередная бестолочь, дружеское против шерсти. Последнее слово, как всегда, за имажинистами. Начало в 7 часов 7 минут вечера. Билеты расхватываются: У швейцара музея" (Государственный Литературный музей).)
** (Вестник жизни, 1919, № 6-7.)
Сегодня с особой очевидностью ясно, что большинство имажинистов по своим литературным взглядам были типичными представителями формалистического искусства, эстетами и снобами. Активно "критикуя" лозунг футуристов "слово-самоцель", они настойчиво выдвигали "новый" лозунг "образ-самоцель", трактуя его откровенно формалистически.
В брошюрке "2×2 = 5" теоретик имажинизма Вадим Шершеневич утверждал, что "победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и с переходом к неграмматическим фразам". Ему вторил Анатолий Мариенгоф, "доказывавший", что "искусство - есть форма. Содержание - одна из частей формы"*.
* (Мариенгоф А. Буян-остров. Имажинизм. М., 1920, с. 10.)
Имажинисты считали, что "соединение отдельных образов в стихотворении есть механическая работа". Тот же Шершеневич без тени смущения предлагал писать стихотворение так, чтобы его можно было читать и с начала, и о конца, и с середины, чтобы любой отдельный конкретный образ можно было вынуть из стихотворения, переставить из начала в конец, из середины - в начало. Вот некоторые образчики подобной "поэзии":
Друзья ремингтоны, поршни и шины, Прыщи велосипедов - на оспе мостовой! Никуда я от вас, машины, не уйду С натощак головой.
Или:
Слушайте, люди! Раковины ушей упругие Растяните в зевоте сплошной! Я пришел совершить свои ласки супруга С заводской машиной стальной.
Это из "поэмы" Шершеневича "Перемирие с машинами". А вот отрывок из "поэмы" Мариенгофа "Развратничаю с вдохновением".
Город к городу каменным задом,
Хвостами окраин
Окраины.
Любуйтесь, граждане, величественнейшей
случкой.
Гиганты, безумия хлебнувши яд,
Языками фонарей зализывают раны.
Молюся о них молитвой такой
(Вздымая руки
Тяжелые, как якорь):
Социалистическое боже, даруй
Счастливейшее им потомство -
Сынов, внуков и правнуков...
К таким "шедеврам" приводила на практике имажинистов их "теория" разрушения старой грамматики и "освобождения" слова от содержания.
Что же привело реалиста Есенина в лоно грубо-вычурной, формалистической поэзии имажинистов?
Сводить все к тому (попытки такие делались в прошлом), что Есенин с помощью шумных выступлений имажинистов стремился приобрести еще большую известность, нельзя, хотя и это имело место, тем более что имажинисты были "мастера" крикливой саморекламы.
Однако главным было настойчивое стремление Есенина найти себе новых литературных союзников и попытаться утвердить свою поэтическую школу. "Назревшая потребность в проведении в жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубликования манифеста имажинистов", - отмечал Есенин в одной из автобиографий. К тому времени Есенин порывает связи с литературной группой "Скифов" (Иванов-Разумник, Н. Клюев, А. Белый). Отходит он после некоторого сближения и от поэтов Пролеткульта (М. Герасимов и другие).
В первые годы революции Есенин проявляет особый интерес к выявлению природы художественного образа, отношения поэзии к жизни и другим эстетическим проблемам. Поэт исключительно строго подходит к оценке своих стихов, к творчеству других писателей. "Душа моя устала и смущена от самого себя происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и от чего болею", - замечает с тревогой поэт в одном из своих писем. В другом письме он даже говорит: "Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что... все мы, в том числе и я, не умели писать стихов".
В 1918 году он создает свою теоретическую работу "Ключи Марии".
Сближаясь с имажинистами, Есенин поначалу считал, что его эстетические принципы близки к их творческим устремлениям. На самом же деле формалистическое творчество имажинистов было глубоко чуждо есенинской поэзии. Не будучи в силах свернуть Есенина с реалистического пути, имажинисты порой уводили его на свои извилистые формалистические проселки.
В литературном кафе имажинистов "Стойло Пегаса" Есенина довольно часто окружали люди богемно-буржуазного толка. Поэт не мог почувствовать здесь революционного дыхания эпохи, не мог увидеть зримо, как сквозь голод и разруху ростки новой жизни пробивают себе путь в будущее.
"Стойло Пегаса" является, в сущности, стойлом буржуазных сынков - и не больше. "Стойло Пегаса" - сброд и бездарности, старающиеся перекричать всех и с помощью нахальства дать знать о себе возможно широко и далеко". Такую резкую, но очень точную идейную, классовую оценку "Стойлу Пегаса" дал еще в те годы писатель-коммунист Дмитрий Фурманов. И "Стойло Пегаса", и само имажинистское окружение - все это оказывало нездоровое влияние на поэта и в конечном итоге - на его творчество.
Трагическая тема человека, чуждого по духу деклассированной богеме и стремящегося вырваться из ее цепких лап, взволнованно раскрывается Есениным в ряде стихотворений "Москвы кабацкой":
И уже говорю я не маме, А в чужой и хохочущий сброд: "Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет!"
Отрицательно сказалось на таких произведениях Есенина, как "Исповедь хулигана", "Кобыльи корабли", "Москва кабацкая", известное увлечение сложными образами и нарочито огрубленной лексикой, за которые ратовали имажинисты.
Художественный авторитет Есенина уже в те годы был высок. Имажинисты, литературная известность которых часто равнялась нулю, всеми силами старались держаться за Есенина, в то время как он все яснее ощущал резкое различие между своим творчеством и их отношением к искусству. "Меня всегда несколько удивляло, - вспоминает И. Н. Розанов, - что, всегда дружески отзываясь о них (имажинистах. - Ю. П.) как о людях, Есенин строго относился к их творчеству, не находя у них, по его мнению, главного: поэтического мироощущения"*. В мае 1921 года в журнале "Знамя" Есенин публикует статью "Быт и искусство" - фрагмент из задуманной им книги "Словесные орнаменты". Главное в статье - резкая, принципиальная критика автором формалистических взглядов имажинистов. "Собратьям моим кажется, - подчеркивает Есенин уже в самом начале статьи, - что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада...
* (Розанов И. Есенин и его спутники. - Сб. Есенин. Жизнь. Личность. Творчество. Л. - М., 1926, с. 88.)
Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ это уже все.
Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных впечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем, строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума". В конце статьи Есенин с особой силой и бескомпромиссностью подчеркивает то главное, что всегда творчески, мировоззренчески разделяло его и имажинистов. "У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляний ради самого кривляния.
У Анатоля Франса, - продолжает Есенин, - есть чудесный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше, ни меньше, как ни на что не направленные выверты.
Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность".
И конечно, далеко не случайно в пору шумных имажинистских деклараций и выступлений Есенин неоднократно публикует свои прекрасные реалистические стихи, наполненные животворным "чувством родины". Так, в газете "Советская страна" в феврале 1919 года в номере, где была помещена "Декларация передовой линии имажинизма", Есенин печатает такие явно антиимажинистские стихи, как "Песнь о собаке" и "Устал я жить в родном краю...". В это же время самарский журнал "Зарево заводов" публикует "Кантату". Несколько позднее, в апреле, выходит сборник "Автографы". В нем наряду с другими был помещен автограф стихотворения Есенина "Разбуди меня завтра рано.. ". Не исчерпываются имажинизмом в 1919-1921 годах и литературно-общественные связи поэта. В начале февраля 1919 года Есенин вошел в состав литературной секции при литературном поезде имени А. В. Луначарского. "Секция ставит своей задачей, - сообщила одна из газет того времени, - широкое ознакомление масс с литературой, литературными течениями и школами. В каждом городе, в котором будет останавливаться поезд, будут устраиваться митинги искусства, лекции, диспуты. В литературную секцию вошли: С. Гусев-Оренбургский, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин, Григорий Колобов, Анатолий Мариенгоф, Петр Орешин, Вячеслав Полонский, Александр Серафимович, Борис Тимофеев, Георгий Устинов"*. В марте 1919 года Есенин подает заявление о зачислении в члены "литературно-художественного клуба" при Советской секции писателей, художников и поэтов. Вот текст этого, во многом примечательного, документа, подписанного Есениным: "В литературно-художественный клуб Советской секции Союза писателей, художников, поэтов. Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП, и активно проявляя это в моих поэмах и статьях, прошу зачислить меня в действительные члены литературно-художественного клуба Советской секции писателей, художников, поэтов. Член секции: Сергей Есенин"**. Весной 1919 года для издательства "Факел" Есенин готовит сборник своих революционных поэм***.
* (Советская страна. М., 1919, № 4.)
** (Есенин С. Собр. соч., т. 6, с. 89.)
*** (Сохранился макет сборника. В него вошли "Небесный барабанщик", "Товарищ", "Иорданская голубица", "Отчарь", "Ус". На титульном листе сборника рукой поэта написано: "Сергей Есенин. Вече (революционные поэмы), изд. "Факел", 1919". Сборник не выходил.)
Эти и ряд других фактов, ставших известными в последние годы, позволяют нам утверждать, что "традиционное" представление об "имажинизме" Есенина, а главное, об идейно-творческих связях поэта с литературной группой имажинистов нуждается в серьезных коррективах. И далеко не случайно в 1925 году поэт отмечал, что "имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом".
Еще раньше, осенью 1924 года, Есенин окончательно порывает с имажинизмом в организационном плане. В газете "Правда" 31 августа 1924 года было напечатано "Письмо в редакцию", подписанное Сергеем Есениным и Иваном Грузиновым. "Мы, - заявили его авторы, - создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа "имажинисты" в доселе известном составе объявляется нами распущенной".
* * *
Обращение Есенина к событиям крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева было связано прежде всего с настойчивым поиском поэтом в эти годы ответа на главный вопрос, поставленный перед ним революционной эпохой: куда несет революционный "вихрь" крестьянскую Русь?
Интерес к историко-революционной теме, к героическому прошлому России, к переломным периодам к народной жизни, к коренным, узловым событиям отечественной истории, когда наиболее полно и ярко раскрывается красота народной души, был вообще характерен для молодой советской литературы. Вспомним обращение А. Н. Толстого к эпохе Петра Первого, исторические романы А. Чапыгина, поэмы Василия Каменского о Емельяне Пугачеве и Степане Разине... "Пугачев" Есенина был едва ли не первой из пьес о вождях народных крестьянских восстаний в нашей драматургии.
Над "Пугачевым" Есенин работал много и напряженно. Написанию его предшествовал довольно длительный период собирания и изучения автором материала по истории пугачевского восстания. "Зайдя как-то в книжный магазин, я застала Есенина, сидящего на корточках где-то внизу, - вспоминает Е. Р. Эйгес, знакомая поэта. - Он копался в книгах, стоящих на нижней полке, держа в руках то один, то другой фолиант. "Ищу материалов по Пугачевскому бунту. Хочу писать поэму о Пугачеве", - сказал Есенин". Побывал Есенин и в оренбургских степях, на местах пугачевского движения. Очень внимательно он отнесся к художественным произведениям о восстании Пугачева. И. Розанов рассказывает об интересном разговоре с Есениным в период его работы над пьесой:
"Однажды Есенин сказал мне: "Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться "Пугачев".
- А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи пугачевского бунта?
- Нет.
Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагической участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было 17 или 16 лет, когда Пугачев взял ее "за красоту" себе в жены, взял насильно; она его не любила, а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.
- Ну это совсем другое!.. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.
И потом, немного помолчав, прибавил: "В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина - не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии.
Я ответил, что тоже таких не припоминаю.
- ...Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева"*.
* (Розанов И. Мое знакомство с Есениным. - В сб.: Памяти Есенина. М.: Книгоиздательство Всероссийского союза поэтов, 1926, с. 42, 43.)
И действительно, образ Пугачева привлекает к себе наше внимание с первого его монолога - в сцене появления в яицком казачьем городке, которой открывается пьеса.
Яик, Яик, ты меня звал Стоном придавленной черни... . . . . . . . . . . . . . . . О, помоги же, степная мгла, Грозно свершить мой замысел!
Героический образ Пугачева раскрывается Есениным в лирическом плане. Это делает его особенно человечным и земным. Он лишен даже малейших внешних атрибутов "вождя". Внимание поэта сосредоточено на раскрытии диалектики души своего героя.
Пугачев Есенина движим неподдельной, все время нарастающей тревогой за судьбы своих соотечественников. Ему больно видеть, как кругом "стонет Русь от цепких лапищ". В самое сердце ранят его при встрече с бедным казаком-сторожем слова о народном горе на Руси: "Всех связали, всех вневолили, с голоду хоть жри железо". И слыша, как стонет родная страна от невыносимого царского гнета, он смело зовет своих соотечественников:
Вытащить из сапогов ножи И всадить их в барские лопатки...
С особой лирической силой Есенин подчеркивает любовь своего героя к родине, его заботу о судьбах простых людей. Вместе с тем в сердце есенинского Пугачева клокочет непримиримая ненависть и гнев к дворянам-угнетателям.
Это чувство любви и ненависти движет поступками есенинского Пугачева в самые напряженные моменты восстания. И когда в одну особенно критическую для повстанцев минуту кто-то предлагает Пугачеву перейти на сторону воюющего с Екатериной султана, он гневно и решительно отвергает этот план "спасения" восстания:
Нет, не могу, не могу! К черту султана с туретчиной, Только на радость врагу Этот побег опрометчивый. Нужно остаться здесь! Нужно остаться, остаться, Чтобы вскипела месть...
Задумав свою пьесу в лирическом ключе, составляющем вообще характернейшую особенность творчества Есенина, автор не дает в ней эпически широких исторических картин пугачевского восстания. И на первый взгляд пьеса может показаться лишенной историзма. Однако рассуждать так - это значит за деревьями не видеть леса. Историзм лирической драмы Есенина проявился прежде всего в глубоком художественном раскрытии социальных, классовых причин восстания, в показе того, что выступление всех слоев трудовой России: и крепостных крестьян, и яицких казаков, которые "задаром проливают пот", и народностей царских окраин, стонущих "от российской чиновничьей неволи", и уральских рабочих, - против дворянской России было исторически неизбежным:
Уже мятеж вздымает паруса. Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.
В показе восстания Пугачева как широкого крестьянского движения, охватившего многие районы страны ("треть страны уже в наших руках"), как могучего порыва народной бури, от которого заходил ходуном царский трон: "...там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя", - во всем этом проявились народность и историзм есенинского "Пугачева". Поэта прежде всего волнует судьба народная, судьба человеческая:
Наших пашен суровых житель Не найдет, где прикрыть головы.
В самобытной, дерзновенной фигуре вождя крестьянского движения Емельяна Пугачева, в его товарищах: "местью вскормленном бунтовщике" Хлопуше, смельчаке Зарубине, мечтающем и верящем, что "не беда, а нежданная радость упадет на мужицкую Русь", - раскрываются Есениным замечательные черты русского национального характера: живой ум, молодецкая удаль, честность и справедливость, ненависть к рабству и угнетению, верность общему делу, ни с чем не сравнимое чувство родины. Чувство это не оставляет героев пьесы даже в самые трудные моменты их жизни. Наступает конец Пугачева. С трудом осознает он, что свершилось непоправимое. Но и в эту трагическую минуту он думает не о себе, а о судьбе родной страны:
...Ах, это осень! . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Это она! Это она подкупила вас, Злая и подлая оборванная старуха, Это она, она, она, Разметав свои волосы зарею зыбкой, Хочет, чтоб сгибла родная страна...
Есенин стремится поставить своего героя в пьесе в такие жизненно-исторические рамки, при которых чувства и мысли, предопределяющие его поступки, могли бы быть переданы с наибольшей лирической силой.
Мы видим Пугачева и в момент, когда только еще зреет мятеж свирепый; и после первых неудачных выступлений яицких казаков, когда отдельные из них уже готовы бежать в Турцию; и в дни, когда он решает объявить себя царем ("Больно, больно мне быть Петром, когда кровь и душа Емельянова"); и, наконец, в черные минуты крушения грозных замыслов Пугачева. В выразительных и впечатляющих заключительных сценах "Пугачева", где трагедийное начало достигает своего наивысшего накала, вместе с тем наиболее отчетливо проявились противоречия и известная ограниченность исторической концепции есенинской пьесы. Автор оставил в пьесе без ответа вопрос о причинах поражения пугачевского восстания. Почему рать повстанцев легла неожиданно под Сарептой, почему "все сорок тысяч за Волгой легли, как один"? Почему войско повстанцев "разбито вконец Михельсоном, калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию"? Почему больше Пугачеву "не вскипеть... ни в какой азиатчине" и не "стать к преддверьям России, как тень Тамерлана"? Все эти вопросы, по сути дела, остаются в пьесе без ответа. Тревожные, субъективные лирические раздумья и предчувствия восставших в том, что "быть беде! Быть великой потере!", что "воют слухи, как псы у ворот", мало что добавляют к этому.
В есенинском "Пугачеве", раздумьях его героев о судьбах родины и народа улавливаются те противоречивые мысли, думы, чувства об исторических путях крестьянской Руси, которые в годы работы над пьесой так волновали самого поэта. Особенно это относится к заключительному монологу Пугачева:
Где ж ты? Где ж ты, былая мощь? Хочешь встать - и рукою не можешь двинуться! Юность, юность! Как майская ночь, Отзвенела ты черемухой в степной провинции. Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном, Тянет мягкою гарью с сухих нерелесиц, Золотою известкой над низким домом Брызжет широкий и теплый месяц. Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух, В рваные ноздри пылью чихнет околица. И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг, Бежит колокольчик, пока за горой не расколется. Боже мой! Неужели пришла пора? Неужель под душой так же падаешь, как под ношей? А казалось... казалось еще вчера... Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
В Пугачеве сказался Есенин, верно подметил еще в двадцатые годы писатель Д. Фурманов.
Писал свою поэму Есенин с расчетом на постановку в театре. Летом 1921 года состоялась читка "Пугачева" в театре Вс. Мейерхольда. И. Старцев вспоминает: "В этот период я впервые услышал декламацию Есенина. Мейерхольд у себя в театре устроил читку "Заговора дураков" Мариенгофа и "Пугачева" Есенина. Мариенгоф читал первым. После его монотонного и однообразного чтения от есенинской декламации (читал первую половину "Пугачева") кидало в дрожь. Местами он заражал чтением и выразительностью своих жестов. Я в первый раз в жизни слышал такое мастерское чтение".
Вс. Мейерхольд в течение длительного времени планировал постановку "Пугачева", однако она не осуществилась.
Есенин многократно выступал с публичным чтением отрывков из "Пугачева". Особенно часто он читал монолог Хлопуши. Среди немногих фонографических записей голоса Есенина сохранилась запись именно этого монолога. Рассказ о чтении Есениным этого монолога содержится в воспоминаниях М. Горького:
"Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты? Смерть?..
Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:
Я хочу увидеть этого человека!
И великолепно был передан страх:
Где он? Где? Неужель его нет?
Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно - под ноги себе, другое - далеко, третье - в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза - все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.
Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли! - громко, гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли!
И, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли! Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Неописуемо хорошо спросил он:
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
И после коротенькой паузы вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои... хор-рошие...
Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он - я думаю - и не нуждался в них".
Максим Горький очень точно и образно выразил те чувства, которые переживал каждый, кому посчастливилось слышать, как читал своего "Пугачева" Есенин.
Так, писатель Н. Н. Никитин, современник Есенина, неоднократно встречавшийся с поэтом, рассказывает:
"Мне часто вспоминается его (Есенина. - Ю. П.) драматический эпос. До сих пор не могу забыть "Пугачева"... Есенин действительно так читал эту драму, что она была видна и без декораций, без актеров, без театральных эффектов.
Мне помнится, как в 20-е годы, после смерти Есенина, В. Я. Софронов пробовал работать над материалом этой драмы. Это были еще робкие попытки, но и тогда уже они были значительны. И мне чувствовалось, что драма - не только для чтения..."
"Пугачев" поражает нас свежестью, новизной органических, реалистических жизненных образов, вдумчивой, пристальной, новаторской работой поэта над словом, - пишет И. Грузинов. - В этом отношении пьеса Есенина по-настоящему полемична".
Поэт решительно расходился с имажинистами во взглядах на театральное искусство. В своем выступлении по этому поводу в связи с обсуждением "Пугачева" он говорил, что "в то время, как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль. Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному...
И если режиссеры считают "Пугачева" не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить "Пугачева", перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть"*. Нельзя не согласиться со справедливым и проницательным суждением о "Пугачеве" писателя Сергея Городецкого, который еще в 1926 году отмечал, что "в этой лирической драме есть блестящие монологи, чисто театральный лаконизм слова и быстрота действия. При небольшой работе над композицией драмы Есенин имел все данные разрешить со времени "Бориса" заброшенную и впоследствии искаженную задачу героической драмы в стихах".
* (Грузинов И. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М.: Книгоиздательство Всероссийского союза поэтов, 1927, с. 10-11.)
"Пугачев - одно из любимейших произведений Есенина. Счастливо сохранившийся черновой автограф поэмы хранит следы вдохновенной и вместе с тем взыскательной, напряженной работы ее автора. Многие строфы поэмы имеют по нескольку вариантов, отдельные же - до двадцати вариантов.
Все говорит о том, что Есенин придавал своей драматической поэме огромное, принципиальное значение, считал ее "революционной вещью"*.
* (Поэт В. Кириллов, рассказывая о чтении "Пугачева" Есениным в Доме печати и обсуждении поэмы, подчеркивал, что "все выступавшие с оценкой "Пугачева" отметили художественные достоинства поэмы и указали ее революционность. Я сказал, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что Пугачев - это сам Есенин. Есенин обиделся и сказал: "Ты ничего не понимаешь, это действительно революционная вещь" (Кириллов В. Встречи с Есениным. - В сб.: Сергей Александрович Есенин. М., 1926, с. 174).)
После "Инонии", "Иорданской голубицы", "Небесного барабанщика" "Пугачев" ознаменовал поворот Есенина к реалистическому воплощению темы народной борьбы.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"