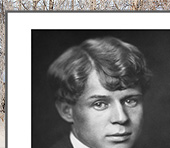


Два мира
Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось, особенно после Америки.
Семнадцатого марта 1922 года Сергей Есенин направляет А. В. Луначарскому письмо-заявление следующего содержания:
"Наркому по просвещению Анатолию Васильевичу Луначарскому.
Заявление
Прошу Вашего ходатайства перед Наркоминделом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг: своих и примыкающей ко мне группы поэтов. Предлагаю свои услуги по выполнению некоторых могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению. В случае Вашего согласия, прошу снабдить меня соответствующими документами.
1922 марта 17"*.
* (Есенин С. Собр. соч., т, 6, с. 116.)
А. В. Луначарский направил заявление Сергея Есенина в комиссию Наркоминдела по рассмотрению заграничных командировок. Постановлением комиссии от 3 апреля 1922 года Есенину была разрешена командировка в Германию сроком на три месяца. Тогда же он получил удостоверение, в котором говорилось: "Народный комиссариат по просвещению просит всех представителей Советской власти, военных и гражданских, оказывать С. А. Есенину всяческое содействие". Заметим при этом, что мысль о заграничной поездке возникала у Есенина и раньше. Поэт Рюрик Ивнев в своих воспоминаниях приводит письмо Луначарского к Карахану в Наркомат иностранных дел, датированное 10 февраля 1921 года:
"Уважаемый тов. Карахан!
Прошу вас оформить поездку за границу поэтов Сергея Есенина и Рюрика Ивнева".
"Оба мы были молоды, - замечает по этому поводу Рюрик Ивнев, - оба любили Россию, как нам казалось, как-то особенно, своею собственной любовью, и нам хотелось, может быть даже бессознательно, заразить этой любовью чужие страны... Итак, решено, мы едем за границу. Все было сделано, все было готово". Однако, вспоминает он далее, к этому времени "в Грузии была установлена Советская власть, а с Грузией у меня были давние связи... Мне страстно захотелось вернуться в страну, из которой я был изгнан меньшевиками. Возможно, что и у Есенина были какие-нибудь изменения в планах ехать за границу..."*
* (Ивнев Р. Московские встречи. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 237.)
Рюрик Ивнев уезжает в Грузию. Что же касается Есенина, то он не только не отказывается от своего намерения побывать за границей, а, наоборот, предпринимает для этого, как мы видели, самые решительные шаги. Определяется окончательно и цель поездки: попытаться издать в Берлине ряд своих книг, а также сборники стихов поэтов-имажинистов*, которые настойчиво пытались убедить Есенина, что "заграница" обязательно проявит интерес к их творчеству. Насколько все это окажется осуществимым на деле, Есенин почувствует реально лишь тогда, когда столкнется с европейской действительностью лицом к лицу.
* (Молодая Советская Республика в те годы испытывала огромные затруднения с выпуском книг. Не было бумаги, полиграфической базы, многие старые типографии были разрушены, не хватало квалифицированных рабочих-печатников. В конце 1921 года (в качестве временной меры) всем кооперативным организациям, равно как и частным лицам, было предоставлено право заниматься книгоиздательством, в том числе и выпуском книг на русском языке за границей. При этом было установлено, что книги, изданные за рубежом, могут быть ввезены в Советскую Россию только после получения одобрения Госиздата. Среди небольших кооперативных издательств, действовавших в то время, несколько поэтических книг и брошюр выпустило издательство "Имажинисты", созданное на паевых началах С. А. Есениным совместно с А. Б. Мариенгофом, А. М. Сахаровым и М. М. Фридманом.)
Пока же он продолжал готовиться к своей заграничной поездке. Иван Грузинов рассказывает об одной из встреч с Есениным в этот период: "В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой.
Он предложил мне посмотреть журнал... это был орган немецких дадаистов.
Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:
- Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых. Они отстали. Это у нас было давно"*.
* (Грузинов И. В. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 277.)
За границей Есенин намеревался выступить со своими стихами, рассказать о литературной жизни в Советской России.
Перед отъездом из Москвы Есенин отправляет в Берлин поэту А. Б. Кусикову телеграмму: "Сделай объявление в газетах о предстоящем нашем вечере на обоих языках".
Вставал перед Есениным и еще один немаловажный вопрос. Поэт прекрасно понимал, что за границей ему придется столкнуться с литераторами-белоэмигрантами, их злобной клеветой на Советскую Россию. Внутренне Есенин был готов к подобным встречам. Его гражданская, общественная позиция была ясна. Характерно в этом отношении свидетельство одного из современников поэта. "Перед отъездом за границу, - вспоминает Иван Грузинов, - Есенин спрашивает А. М. Сахарова:
- Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?
- А ты руки ему не подавай! - отвечает Сахаров.
- Я не только не подам руки Мережковскому, - соглашается Есенин. - Я не только не подам ему руки, но я смогу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!.."*
* (Грузинов И. В. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 278.)
И еще: у Есенина в его поездке за границу была, так сказать, своя сверхзадача: сравнить, сопоставить жизнь своей Родины с жизнью Запада. Сравнить, сопоставить для того, чтобы зримее, конкретнее представить перспективу будущего, а главное, чтобы найти наконец ответ на глобальный вопрос: "Куда несет нас рок событий?" Именно эта сверхзадача определяла в конечном итоге все мировоззренческие устремления и гражданские помыслы поэта, равно как и все его конкретные шаги, которые он предпринимал в связи с поездкой за границу.
К сожалению, в литературе о Есенине чаще всего все сводится лишь к одному знаменателю - гастрольной поездке Айседоры Дункан, вместе с которой, дескать, отправился за границу и ее муж - Сергей Есенин*. Между тем впервые мысль о поездке за границу возникает у Есенина, как уже отмечалось, еще в феврале 1921 года, до встречи с Айседорой Дункан. В дальнейшем, как мы видели, этот вопрос совершенно самостоятельно рассматривался и решался А. В. Луначарским и в Наркоминделе.
* (Так, например, пишет об этом в своих мемуарах, содержащих ряд интересных сведений, И. И. Шнейдер (см. его книгу "Встречи с Есениным". М.: Советская Россия, 1965, с. 52-53).)
Что же касается Айседоры Дункан, то у нее были свои, иные планы относительно европейской поездки.
В Советскую Россию Дункан была приглашена наркомом но просвещению А. В. Луначарским. Она приехала из-за границы, приехала как человек подлинно большого искусства, обеспокоенная гибелью его на Западе, приехала, ибо была твердо убеждена, что только русская революция открыла путь к действительной свободе творчества и созданию глубоко народного искусства.
"Перед отъездом Дункан в Москву журналисты Парижа и Лондона атаковали ее, забрасывая десятками вопросов, ответы на которые они печатали во множестве интервью.
- Не боитесь ли вы ехать в Советскую Россию, когда там нечего есть?
- Я боюсь духовного, а не телесного голода. Мечта моей жизни должна быть осуществлена! Только в России я смогу создать школу, о которой мечтаю.
- Но в Америке существует много школ, применяющих ваш метод.
- В Америке такие бесчисленные школы открыты людьми, которые применяют мой метод без понимания его существа...
- Какой контракт вы подписали с Советским правительством?
- Я еду в Советскую Россию без всякого контракта. Мне надоели контракты! Русские могут не иметь достаточно еды, но они твердо решили, что искусство и образование должны быть доступны всем!"*
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 314-315.)
Через несколько месяцев после приезда в Москву Дункан в беседе с корреспондентом "Юманите" с еще большей категоричностью заявила о своем разрыве с миром буржуазного искусства:
"Я оставила Европу, где искусство раздавлено коммерцией. Я убеждена в том, - продолжала она с присущей ей революционной страстностью, - что в России совершается величайшее в истории человечества чудо, какое только имело место на протяжении последних двух тысячелетий. Мы находимся слишком близко к этому явлению, чтобы увидеть больше, чем только материальные последствия, но те, которые будут жить в течение следующего столетия, поймут, что человечество через коммунизм решило сделать огромный шаг вперед.
...Только братство рабочих всего мира, только Интернационал могут спасти человечество"*.
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 314-315.)
Сказано это было в 1921 году!
Подлинным революционным прозрением должен обладать художник, чтобы в годы войны и разрухи, интервенции и блокады, голода и холода, за "горами горя" разглядеть зримо "солнечный край" коммуны.
Айседора Дункан, несомненно, была одним из таких художников. "Мои три года жизни в России, - скажет она незадолго до смерти, - со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни, вместе взятого! Ничего нет невозможного в этой великой стране..."*
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 320.)
В Москве Айседора Дункан создает балетную школу. Она с увлечением занимается в ней с детьми рабочих, приобщая их к высокому искусству танца. Как отмечал в своих "Воспоминаниях" Луначарский, "Айседоре казалось, что если тело будет сделано легким, грациозным, свободно двигающимся, то это в значительной степени повлияет и на сознание людей и даже на их общественную жизнь"*.
* (Цит. по кн.: Шнейдер И. Встречи с Есениным. М.: Советская Россия, 1965, с. 39.)
"Мой танец не танец прошлого, - подчеркивала Дункан, - это - танец будущего"*. "Я хочу, - продолжала она, - учить ваших детей и создавать прекрасные тела с гармонически развитыми душами..."**
* (Цит. по кн.: Шнейдер И. Встречи с Есениным. М.: Советская Россия, 1965, с. 10.)
** (Цит. по кн.: Шнейдер И. Встречи с Есениным. М.: Советская Россия, 1965, с. 16.)
Прекрасным подтверждением этих слов стало одно из первых выступлений самой Дункан в Большом театре 7 ноября 1921 года, на вечере, посвященном четвертой годовщине Октябрьской революции. Один из тех, кому в тот памятный день посчастливилось присутствовать в Большом театре, - бывший курсант Первой советской школы военных летчиков, ныне полковник болгарской армии Христо Паков, рассказывает:
"На авансцену вышел Луначарский. Он кратко рассказал о творчестве всемирно известной балерины Айседоры Дункан и пояснил содержание предстоящего балета.
Поднялся занавес. Сцена изображала полушарие Земли. В центре лежал закованный цепями раб. Его роль исполняла сама Айседора. Из оркестра чуть слышно доносились первые аккорды, напоминавшие песню русских бурлаков. Под эти звуки балерина мастерски передала страдания измученного оковами раба. Внезапно прозвучала мелодия ненавистного народу гимна "Боже, царя храни...". В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба. Царский гимн гремел все громче. Но раб мужественно сопротивлялся. В каждом движении, каждом жесте и выразительной мимике великой артистки отражалось все напряжение неравной борьбы. Но вот под бравурные звуки "Марсельезы" рабу удалось, освободив от цепей одну руку, схватить двуглавого орла. И тогда "Марсельезу" сменил величавый мотив "Интернационала". Раб сбросил остальные цепи. Радостно засияло лицо балерины. Вихрем понеслась она по сцене в ликующем танце Освобождения...
Честно говоря, в то время я неважно разбирался в хореографическом искусстве. К тому же куда чаще, чем на сцену, я смотрел на правительственную ложу. Ведь там - всего-навсего в нескольких метрах от нас - находился Ленин...
На сцене снова Луначарский. Он объявил, что артистка готова повторить заключительную сцену балета, если зрители исполнят вместе с ней "Интернационал". Публика встретила эту весть с энтузиазмом. И когда Дункан вышла на сцену, все, не ожидая оркестра, стоя запели "Интернационал". Пел вместе со всеми, кто был в зале, и Владимир Ильич..."*
* (Цит. по статье: Яковлев Б. Ленин в Большом театре. - Советская культура, 1962, 21 апреля, № 49 (1385).)
Еще раньше, до приезда Айседоры Дункан в Россию, когда "обсуждался вопрос, приглашать ли к нам Дункан в такие тяжелые для страны годы, Владимир Ильич Ленин считал, что вопрос должен быть решен положительно"*.
* (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 19.)
Вскоре после приезда Айседоры Дункан в Москву на одном из вечеров в мастерской художника Якулова ее познакомили с Есениным. "Он читал мне свои стихи, я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка..."* - говорила Дункан в тот вечер.
* (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 24.)
Знакомство Есенина и Дункан очень быстро переросло в сердечную дружбу. "Есенин, - вспоминает один из современников поэта, - не пропустил ни одного спектакля Айседоры... И на тот первый спектакль (в Большом театре. - Ю. П.) Есенин привел с собой массу друзей... Особенно он любил "Славянский марш", который смотрел иногда и не из зрительного зала, а со сцены"*. "Вот "Славянский марш"... - заметил как-то Есенин. - Изадора ненавидела русскую царщину. Я тоже, всегда... Даже пострадал когда-то за это и угодил в штрафной батальон"**.
* (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 40.)
** (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 41.)
Есенин встретился с Дункан в пору своего "имажинистского" увлечения поиском яркого, самобытного, неповторимого поэтического образа. Работая в это время над "Пугачевым", он настойчиво ищет такие художественные средства, которые позволили бы ему полнее и органичнее выразить себя, свое время, прошлое и будущее России. В искусстве Дункан, ее новаторски вдохновенных танцах, построенных на дерзких, впечатляющих образах, наполненных революционной романтикой, многое было созвучно художественному видению поэта, его гражданской позиции. Примечателен в этом плане один из разговоров поэта с Дункан об "имажинизме" в ее танцах, его приводит в своих воспоминаниях И. И. Шнейдер:
"Как-то Есенин сказал Айседоре:
- Ты - имажинист!
Она поняла, но, подняв на него глаза, недоумевающе спросила:
- Па-чи-му?
- Потому что в твоем искусстве главное - образ!
- Was ist "обрасс"? - повернулась Айседора ко мне. Я перевел...
- Ты - имажинист. Но хороший. Понимаешь? Она кивнула головой.
- Ты - Revolution! Понимаешь?..
Этот разговор происходил незадолго до отъезда Есенина и Дункан за границу"*.
* (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 41-42.)
Характерно, что и Дункан на одном из своих выступлений перед журналистами в Америке с особой силой подчеркнет причастность ее и Есенина к революционному обновлению мира:
"Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня"*.
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 319.)
Когда же писатель-эмигрант Мережковский в своей клеветнической статье злопыхательски заявил, что Есенин и Дункан - это "представители большевистской тирании", что Дункан "продалась большевикам", а Есенин - "пьяный мужик", пытавшийся в Париже... ограбить американского миллионера, Айседора Дункан решительно напомнила этому "господину", что в действительности связывает ее и великого поэта России - Есенина с революцией, Советской властью, с гуманистическими традициями мировой литературы.
"...Во время войны, - заявила Дункан, - я танцевала "Марсельезу", потому что считала, что эта дорога ведет к свободе. Теперь я танцую "Интернационал", потому что чувствую, что это гимн будущего человечества. Есенин, - продолжала она, - самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь - все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господии Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями.
Несмотря на это, я желаю господину Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных перчатках..."*
* (Цит. по кн.: Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 70-71.)
Позднее, в январе 1926 года, Дункан с еще большей непримиримостью и взволнованностью отвергнет наглые домыслы буржуазной прессы, стремящейся после смерти Есенина опорочить их отношения и оклеветать поэта. "Трагическая смерть Есенина, - писала в те дни Дункан в парижские газеты, - причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Не удовлетворенный всеми этими дарамиг его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех любящих поэзию. Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Между Есениным и мною никогда не было ссор... Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием".
Да! Что бы ни пытались утверждать в разное время разного рода "знатоки" и "доброжелатели" Сергея Есенина и Айседоры Дункан, несомненно одно: вспыхнувшая, словно далекая звезда, озаренная романтикой, дыханием революционной грозы, дружба и любовь таких удивительных личностей, какими, несомненно, были Есенин и Дункан, по-своему прекрасна и неповторима. О бытовом, интимном в их жизни писалось и говорилось в прошлом многое. Ныне это "бытовое" все дальше и дальше отходит на задний план. Вместе с тем все явственнее высвечивается и обозначается главное, исторически общественно значимое в этой на первый взгляд фантастически "случайной" их встрече.
Послушайте! Ведь, если звезды Зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - это необходимо? Чтобы каждый вечер Над крышами Загоралась хоть одна звезда!
Прав, тысячу раз прав великий поэт революции Владимир Маяковский:
Значит - это кому-нибудь нужно? Значит - это необходимо...
"За все, за все, за все тебя благодарю я..." - взволнованно писал Есенин на "Пугачеве" - своей любимой книге, которую он подарил Айседоре.
* * *
Почти год проводит Дункан в Советской России. "Вот моя награда! - сказала Айседора после одного урока танца с детьми. - Газеты Европы и Америки перед моим отъездом в Москву скептически пророчили мне неудачу... Если бы можно было сделать так, чтобы этих детей увидал мир!"* Эта идея Айседоры Дункан получает поддержку советских государственных учреждений. Дункан начинает деятельно готовиться к поездке за рубеж с ученицами своей школы. Она связывается с постоянным организатором ее гастролей - американским импресарио Юроком. Он соглашается устроить выступление Дункан и группы ее учениц в крупнейших американских концертных залах, а также провести ряд литературных выступлений ее мужа - "знаменитого русского поэта Сергея Есенина".
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 312.)
Перед заграничной поездкой Есенин и Дункан официально зарегистрировали свой брак. "Айседора и Есенин, - рассказывает И. Шнейдер, - хотели закрепить свой брак по советским законам, тем более, что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней "полиции нравов"..."*
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 313.)
Многое, помимо личного, объединило Есенина и Дункан в их поездке на Запад. При внешне, казалось бы, различных задачах они направлялись в Европу и Америку как посланцы нового мира, направлялись, чтобы рассказать на Западе о Руси Советской, об искусстве и литературе, рожденных революцией. И еще: Есенин и Дункан ехали на Запад в то время, когда, к сожалению, некоторые известные русские художники, писатели, артисты надолго, а иные навсегда в душевном смятении покидали свою родину. Вспомним Куприна, Скитальца, Бунина, вспомним великого Шаляпина, его так и не осуществившуюся мечту о возвращении на родину, вспомним Сергея Коненкова, с которым Есенин встречался в первые годы революции и который, в начале двадцатых годов уехав из России, вернулся на родную землю лишь после Великой Отечественной войны. Все было не так просто...
10 мая 1922 года рано утром с московского аэродрома в воздух поднялся небольшой самолет и взял курс на запад. Так была открыта первая международная линия Аэрофлота: Москва - Берлин. Есенин и Дункан вылетели в Германию этим самолетом. Всего шесть пассажиров находились в его крохотном салоне. С волнением читаем мы сегодня строки репортерской заметки об этом полете: "Аппарат с виду точно игрушечка. Каюта, в которую ведет дверь с каретным окном, похожа на вместилище старинных дилижансов; друг против друга два мягких дивана на 6 мест. Написано на немецком и русском языках - "собственность Российской республики". Вес аппарата 92 пуда, грузоподъемность 56 пудов... путь от Москвы до Кенигсберга проходится в 11 часов, с остановкой в Смоленске и Полоцке".
Перед отъездом, в последний вечер, вспоминает Иван Старцев, Есенин был как-то по-особенному взволнован. На следующий день, рассказывает он, "стояло туманное утро. Мы с Сахаровым спешили на аэродром попрощаться с улетавшим на аэроплане в Кенигсберг (Есениным. - Ю. П.). У каждого из нас была затаенная в глубине надежда, что Есенин останется. Расставаясь с нами накануне, считаясь уже официально мужем Дункан, Есенин терялся и не находил нужных слов. На аэродром мы опоздали. Аэроплан был уже высоко в воздухе, удаляясь от Москвы"*.
* (Старцев И. И. Мои встречи с Есениным. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 252.)
12 мая 1922 года Есенин и Дункан прибыли в Берлин. Понятен почти сенсационный интерес к их приезду буржуазной и эмигрантской прессы. Ведь Есенин и Дункан прибыли из "большевистской Москвы": каковы их убеждения, настроения? что скажет теперь Дункан о Советской России, пробыв там около года? что думает о России, Советской власти Есенин?
"Несмотря на лишения, - отвечает всем им Дункан, - русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый груз по перестройке жизни. Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, и его семья с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве"*.
* (Воспоминания о Сергее Есенине, с. 315.)
Что же касается Есенина, то уже в первом своем интервью, данном в Берлине, он со всей гражданской прямотой и политической определенностью заявил: "Я люблю Россию. Она, - подчеркивал поэт далее, - не признает никакой иной власти, кроме Советской"*.
* (Накануне, 1922, 16 мая.)
Подобные высказывания по-хорошему, сочувственно воспринимались на Западе прогрессивной интеллигенцией и той частью русской эмиграции, которая честно хотела вернуться на родину. Буржуазные круги и белая эмиграция относились к приезду русского советского поэта настороженно-враждебно, стремясь всячески оскорбить, спровоцировать Есенина, опорочить его имя. Так, белоэмигрантская газетенка "Руль" поместила в те дни на своих страницах злопыхательски-провокационные стишки. Трудно сказать, чего в них было больше: неприкрытой классовой ненависти, бессилия перед правдой Революции, какой-то сумасшедше-звериной оголтелости, бесстыдства или маразма!
13 мая 1922 года в берлинском "Кафе Леон", где, из-за отсутствия своего помещения, разместился Дом искусств и где обычно собирались по-разному настроенные русские интеллигенты-эмигранты, состоялось первое выступление Есенина. Поэт пришел туда один и сразу начал читать стихи. Зал насторожился, замер. Голос поэта звучал напряженно, вдохновенно. Зал дрогнул, раскололся и зааплодировал. В это время Есенину сообщили, что пришла Дункан. Он вышел и через несколько минут вернулся в зал вместе с ней. Их встретили приветливо. Казалось, что вечер закончится на мирной волне. Неожиданно Дункан предложила спеть в честь Есенина "Интернационал". Она и Есенин запели, и к ним сразу присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев, они криками "долой" и свистом прервали пение. Есенин вскочил на стул. "Вы все равно не пересвистите!" И продолжал петь. И снова читал стихи"*. На следующий день сменовеховская газета "Накануне", выходившая в Берлине, в заметке о вечере в Доме искусств с явной издевкой сообщала, что Есенин, Дункан, вся их "группа вдохновенно профальшивила "Интернационал"** (выделено мной. - Ю. П.). Заявление Есенина в печати о том, что Россия признает только Советскую власть, выступление в Доме искусств со стихами, пением "Интернационала", словом о России***, - выступление, носящее, по существу, не столько поэтический, сколько политический характер, наконец, участие Есенина в других литературных встречах в Берлине, где он, читая свои стихи, также горячо и убежденно говорил о Советской России****, - все это белогвардейские круги и их пресса пытаются использовать по-своему. Всячески раздувая слухи о "скандальных" выступлениях поэта, они одновременно изображают Есенина ни больше ни меньше, как... "большевистским агентом, связанным с Чека". Особенно в этом сборище белогвардейских клеветников усердствуют старые "знакомые" Есенина - матерые антисоветчики Мережковский и Гиппиус*****.
* (Шнейдер И. Встречи с Есениным, с. 59.)
** (Накануне, 1922, 14 мая.)
*** (Один из эмигрантов, присутствовавший в Доме искусств, отмечает в своих воспоминаниях, не без тенденциозности, что на вечере Есенин "кричал об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт".)
**** (Через несколько дней после выступления в Доме искусств в честь Есенина был организован большой вечер в зале Общества зубных врачей. 1 июня 1922 года поэт принимает участие в вечере группы русских писателей в Блютнерзале (Лютцовштрассе), где выступил А. Толстой. Есенин на этом вечере читал "Пугачева" и другие стихи.)
***** (Так, например, перед приездом Есенина во Францию, желая, очевидно, заблаговременно "сориентировать" "общественное мнение", белоэмигрантская парижская газета "Последние новости" печатает злобную статью Зинаиды Гиппиус. Последняя обрушивает на Есенина поток грязи и клеветы. Буквально задыхаясь от злости, она заявляет, что Есенин - это "негодяй", человек "без веры и закона", "лишенный внутреннего стержня".)
Свою ставку белоэмигранты делали на то, что им удастся травмировать поэта морально, вывести из равновесия, озлобить его и даже запугать, а также изолировать от тех русских писателей-эмигрантов, которые все с большим интересом относились к жизни на их родине. Была и другая цель. Попытаться через прессу оказать давление на определенные влиятельные круги на Западе, чтобы с их помощью ограничить пребывание Есенина и Дункан в европейских странах. И надо сказать, что в какой-то мере это им иногда удавалось.
Еще в 1955 году меня удивило одно неизвестное письмо Есенина и Дункан, обнаруженное мной тогда в одном из московских архивов (ныне оно напечатано в Собрании сочинений поэта). Направлено оно было из Дюссельдорфа 29 июня 1922 года заместителю наркома иностранных дел М. М. Литвинову. Вот его текст:
"Уважаемый тов. Литвинов!
Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтобы мы выбрались из Германии и попали в Гаагу. Обещаю держать себя корректно и в публичных местах "Интернационала" не петь.
Уважающие вас
Есенин,
Айседора Дункан"*
* (Есенин С. Собр. соч., т. 6, с. 122.)
Случай с "Интернационалом" имеет свое продолжение. Из Европы Есенин и Дункан отправились в Америку. Как писал поэт позднее, когда было решено "впустить" его туда, "взяли с меня подписку не петь "Интернационала", как это сделал я в Берлине"*.
* (Есенин С. Собр. соч., т. 5, с. 146.)
Конечно, пение "Интернационала" на Западе в общественных местах - это не совсем обычная форма "агитации" за Советскую власть. Но не будем забывать, что Сергей Есенин всегда и везде оставался поэтом - человеком предельной искренности и эмоциональности. Его "Интернационал" - это любовь к Родине, верность Родине, это его гражданская позиция.
Так выглядит легенда о "скандалах" Есенина за рубежом, такова их политическая подоплека. "В Берлине, - замечает по этому поводу Есенин в одном из своих писем, отправленных им в Москву из Германии, - я наделал, конечно, много скандала и переполоха... Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно... Ну да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной".
Позднее, рассказывая о своей зарубежной поездке одному из поэтов-современников, Есенин заметит в сердцах, с явной досадой: "Про наших эмигрантов и говорить нечего. Эти все конченые, выдуманные. Даже и шипят на нас не талантливо, по-жабьи. Один из них - рыхлый такой толстяк - спрашивает меня: "А правда, что вы пастухом были?" - "Правда, говорю, что же тут удивительного? Всякий деревенский парнишка в свое время пастух", - "Ну тогда понятно, что вы большевиком стали. Вы, значит, их действия одобряете?" - "Одобряю", - говорю. И взяла меня тут такая злость, что наговорил я ему такого... И вообще скажу тебе, - продолясал Есенин, - где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над Советской страной вынести не мог. И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил"*.
* (Рождественский Вс. Страницы жизни. М. - Л.: Советский писатель, 1962, с. 273-274.)
Вернувшись из-за границы, в незавершенном памфлете "Дама с лорнетом", имеющем подзаголовок "Вроде письма (На общеизвестное)", Есенин сказал свое слово и о Гиппиус с Мережковским, об их предательстве, продажности, беспринципности. Со всей гражданской непримиримостью и политической определенностью Есенин заявляет "даме с лорнетом" - "мадам Гиппиус": "Лживая и скверная Вы. Все у Вас направлено на личное влияние... Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь... Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию..."
* * *
Почти полтора года пробыл Есенин за границей. Вдали от родины он мало писал, огромна была его тоска по России. Он думал о ней всюду: в Берлине и Риме, Нью-Йорке и Чикаго... Достаточно перечитать зарубежные письма поэта, чтобы почувствовать это. Или вспомнить строки одного из немногих стихотворений тех лет, написанных Есениным в 1923 году в Париже:
Не искал я ни славы, ни покоя, Я с тщетой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, Вижу только родительский дом. Вижу сад в голубых накрапах, Тихо август прилег ко плетню. Держат липы в зеленых лапах Птичий гомон и щебетню.
Как откровенье, как крик души звучит голос поэта!
Ах, и я эти страны знаю - Сам немалый прошел там путь. Только ближе к родимому краю Мне б хотелось теперь повернуть.
Мысль о скорейшем возвращении в родные края становилась все неотвратимее: охваченная тоской и грустью, почти умолкает муза поэта. И казалось, можно было бы предположить, что заграничная поездка лишь задержала дальнейший творческий рост Есенина, что поэт только зря растратил в этой поездке много душевных и физических сил, что вообще ему не надо было отправляться на Запад. Однако сам Есенин неоднократно и справедливо подчеркивал важность для него посещения Европы и Америки. "...Да, я вернулся не тем, - отмечал Есенин осенью 1923 года, по приезде на родину. - Много дано мне и много отнято. Перевешивает то, что дано (выделено мной. - Ю. П.). Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое, - подчеркивает поэт, - переломилось, особенно после Америки".
И еще.
"После заграницы, - писал он в автобиографии, - я смотрел на страну свою и события по-другому".
Столкнувшись с буржуазной действительностью, нравами капиталистической прессы и современного буржуазного искусства, с нигилистическим и мещанки-обывательским отношением в европейских странах и США к подлинному реалистическому искусству с его гуманистическим пафосом и прославлением Человека, потрясенный духовной нищетой Запада, - Есенин испытывает резкий перелом в своих взглядах, а главное, по-иному начинает относиться к тому, что происходит на его родине. Об этом Есенин теперь все чаще говорит в своих письмах. Во время поездки по европейским странам обостряются гражданские чувства поэта, его идейно-эстетические взгляды, его политическая позиция. Уже в одном из первых писем, отправленных из Висбадена 21 июня 1922 года, Есенин писал И. И. Шнейдеру: "Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер... Все зашло в тупик". Заканчивая письмо, Есенин сообщает еще одну важную "деталь": "О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж). Но все это после, сейчас жаль нервов".
Заметим, что данное письмо не является для поэта каким-то исключением. Нет! Такой идейный настрой и гражданский пафос характерны и типичны для зарубежных писем поэта.
"Родные мои! Хорошие! - писал Есенин из Дюссельдорфа в Москву А. М. Сахарову не позднее 5 июля 1922 года. - Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать - самое высшее мюзик-холл...
Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод... зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину".
Через несколько дней в большом письме из Остенде, отправленном Мариенгофу 9 июля 1922 года, Есенин вновь подчеркивает: "Здесь такая тоска, такая бездарнейшая "северянинщина" жизни..." При этом он замечает, что "со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах особенно твоему взору, - говорит он Мариенгофу, - это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди - а могильные черви, дома их гробы, а материк - склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут". И вновь, как и в предыдущих письмах, - мечта о скорейшем возвращении на родину! "...Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию... - пишет Есенин и добавляет: - ...если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо".
Но и через месяц, и через два поэт не смог "удрать" обратно. Поездка по европейским странам продолжалась. В мае - августе 1922 года Есенин и Дункан, помимо Берлина, побывали во Франкфурте, Висбадене, Гааге, Брюсселе, Париже, посетили Рим, Неаполь, Венецию, Флоренцию. В Веймаре - городе Гёте и Шиллера - Есенин, как вспоминала Дункан позднее, разговаривал "шепотом, с благоговением взирая на свидетелей жизни великих поэтов, - старые грабы, мощно растущие среди молодых фруктовых деревьев. Долго смотрел на недописанную Гёте страничку, лежащую на его письменном столе"*.
* (Шнейдер И. Встреча с Есениным, с. 63.)
Надолго, если не навсегда, Есенин сохранил в памяти и день своей встречи в Берлине с А. М. Горьким.
"В этот год, - рассказывает в своих воспоминаниях Н. В. Толстая-Крандиевская, - Горький жил в Берлине.
- Зовите меня на Есенина, - сказал он однажды, - интересует меня этот человек.
Было решено устроить завтрак в пансионате Фишера, где мы снимали две большие меблированные комнаты... Приглашены были Айседора, Есенин и Горький"*. Поначалу "разговор у Есенина с Горьким, посаженных рядом, не налаживался. Я видела, - замечает Толстая-Крандиевская, - Есенин робеет, как мальчик. Горький присматривался к нему"**. Вполне вероятно, что Горький вспоминал, как в Петрограде мало кому известный молодой рязанский поэт читал ему свои "яркие, размашистые, сердечные" стихи. А Есенин - первый приезд в Питер, встречу с Горьким, свои стихи, напечатанные в горьковской "Летописи". И вот теперь эта встреча. "Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им"***. Что и как читал Есенин, хорошо известно из воспоминаний Горького. Он читал "Пугачева", поэму, которую только что завершил и считал своей лучшей вещью и которую собирался издать в Берлине. Величайший гуманист, Горький был потрясен гуманистическим пафосом поэзии Есенина, великой любовью "ко всему живому в мире".
* (Толстая-Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 327.)
** (Толстая-Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 327-328.)
*** (Толстая-Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан. - В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине, с. 328.)
"Я попросил его, - вспоминает Горький, - прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.
- Если вы не устали...
- Я не устаю от стихов, - сказал он и недоверчиво спросил: - А вам нравится о собаке?
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.
- Да, я очень люблю всякое зверье, - молвил Есенин задумчиво и тихо... и начал читать "Песнь о собаке"*.
* (Горький М. Собр. соч., т. 17, с. 63.)
Великий пролетарский писатель проявил огромный интерес к тому главному, чем жил Есенин, - к его стихам, поэзии, проявил в то время, когда Есенин все больше и больше убеждался, что стихи, поэзия по-настоящему мало кого интересуют на Западе.
Краткий, но характерный разговор состоялся между Есениным и Горьким во время их посещения берлинского Луна-парка.
"Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, - рассказывает Горький, - он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:
- Вы думаете - мои стихи нужны? Вообще искусство, то есть поэзия - нужна?
Вопрос, - замечает Горький, - был уместен как нельзя больше. - Луна-парк забавно живет и без Шиллера"*.
* (Горький М. Собр. соч., т. 17, с. 65.)
Провожая Есенина в Германию, Мариенгоф и другие имажинисты считали, что на "свободном" Западе к их творчеству будет, несомненно, проявлен больший интерес, чем у себя дома. Они возлагали большие надежды на поездку Есенина. В какой-то мере надеялся на это и сам Есенин. И вот теперь, столкнувшись с действительным положением вещей, Есенин словно ушат холодной воды выливает на голову Мариенгофа: "От твоих книг шарахаются. Хорошую книгу стихов удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих". Крайне ограниченными и бедными выглядят планы на будущее. "Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по 3-2 страницы двух несчастных авторов, - замечает Есенин, - о которых здесь знают весьма немного и то в литературных кругах".
И вновь поэт в своих письмах говорит о родине, об огромных духовных ее богатствах, о тех действительно величайших возможностях, которые открываются для творчества в России.
"Там, из Москвы, - напоминает Есенин Мариенгофу, - нам казалось, что Европа - это самый обширный рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может".
Позднее, в сентябре 1922 года, в письме из Парижа Есенин, как бы продолжая свои тревожные размышления о жизни и искусстве на Западе и свой разговор на эту тему с Мариенгофом, не без горькой иронии замечает:
"Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О нет, Вы не знаете Европы!.. Боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета... Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью..."
И еще одно есенинское письмо. На этот раз из Америки, Есенин вновь касается в нем главного вопроса в своей переписке с Мариенгофом. "Раньше, - указывает он, - подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, "заграница", а теперь, как увидел, молю бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно..." И дальше: "Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре "железа и электричества" здесь у каждого полтора фунта грязи в носу". А "в голове у меня, - подчеркивает Есенин, - одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски".
И так почти в каждом письме: вновь и вновь тревожные раздумья и размышления, вновь и вновь сравнение и сопоставление Запада и России; и все большее осознание, все большее убеждение, что буржуазный порядок жизни и подлинное искусство несовместимы, что буржуазный строй убивает в человеке человека, обкрадывает, опустошает народ духовно и нравственно. И вместе с тем все большее гражданское прозрение, все большая гордость за свою родину, все большее принятие умом и сердцем тех великих начинаний и преобразований, которые Октябрьская революция принесла миру "Только за границей я понял совершенно ясно, - говорил Есенин, - как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства"*.
* (Накануне, 1922, 16 мая.)
Эти новые для поэта взгляды ярко проявились позднее, в двадцать четвертом, двадцать пятом годах в его творчество.
* * *
Осенью 1922 года Есенин и Дункан приезжают в Нью-Йорк. "Страна Колумба" встретила их "гостеприимно". "Элис-Аленд - небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...
Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую Свободы и прыснули со смеху: "Бедная старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!" - сказал я...
На Элис-Аленд нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.
- Смотри, - сказал я спутнику, - это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!.."*
* (Есенин С. Собр. соч., т. 5, с. 144-145.)
То, что Есенин прибыл в Америку, все больше осознавая необходимость революционных преобразований, проводимых на его родине, позволило ему широко и проницательно взглянуть на существо американской цивилизации.
"Обиженным на жестокость русской революции культурникам, - подчеркивал Есенин, - не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры*. Своему очерку об Америке, напечатанному вскоре после возвращения из-за границы, в августе 1923 года, в газете "Известия" Есенин дал выразительное название: "Железный Миргород"**.
* (Есенин С. Собр. соч., т. 5, с. 147.)
** (Иван Грузинов вспоминает: "Сергей показывает правую руку: на руке что-то вроде черной перчатки: чернила.
- В один присест написал статью об Америке для "Известий". Это только первая часть. Напишу еще ряд статей".)
"Что такое Америка?
Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.
Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады".
Неодолим научный, технический прогресс человечества. Находясь в Америке, Есенин еще больше осознает эту истину, замечая не без горькой иронии, что "индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал "белый дьявол".
Вместе с тем, чем дольше Есенин находится в Америке, тем все больше и больше убеждается, что за "праздничным", "выставочным" фасадом Нью-Йорка и Чикаго, за "внешней культурой" машин, ослепительными огнями Бродвея скрывается бездуховная жестокость американской действительности, отсутствие в народе "культуры внутренней", высоких, духовных запросов "самих американцев", примитивизм их мышления, подчиненного одной "мечте", одной "страсти" - обогащению и наживе. "Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в "business" и остального знать не желает", - подчеркивает Есенин в очерке. Поэт говорит о примитивизме и крайне слабом влиянии на Духовную жизнь народа американского искусства, которое находится "на самой низшей ступени развития. Там, - замечает поэт, - до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы - народ весьма молодой и не вполне сложившийся". И далее следует очень точная и глубокая мысль: "Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки - только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь". Одновременно Есенин с огромным уважением говорит о "фигуре Эдисона", который "есть сердце этой страны". Однако, подчеркивает при этом Есенин, "свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают..."
Все сильнее потрясает поэта Советской России контрастно-противоречивый мир Америки.
Оказалось, что не только высотой своих небоскребов и индустриальной мощью Америка давно обогнала, "обскакала" "старушку Европу", но и превзошла ее бездуховностью, инертностью мысли среднего американца, его мещанским представлением о счастье жизни в духе героев гоголевского Миргорода. "Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.
- Слушайте, - говорил мне один американец, - я знаю Европу, не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннеси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?
От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю", - обескураженно, с грустью констатирует Есенин.
Говоря о подлинном потрясении великого поэта-гуманиста бездуховностью современного западного мира, следует особо подчеркнуть, что для Есенина была чужда недооценка достижений человеческого гения в эпоху господства буржуазии. Более того, видя на Западе высокое развитие техники, производства, поэт еще острее чувствует историческую неизбежность конца полевой, патриархальной Руси, а вместе с тем все очевидней для Есенина становится, что путь, на который Россия встала после Октября 1917 года - путь социалистических преобразований страны, - объективно единственно возможный и верный. Перед отъездом из Европы в Америку, пишет Есенин, я "вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь", как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию... С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, - я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве".
Мы не погрешим против истины, если скажем, что в очерке "Железный Миргород" поэт, может быть, впервые столь сознательно и убежденно стал близок и умом и сердцем к коммунистам в их отношении к Америке Рокфеллеров и маккормиков.
Ведя речь о "Железном Миргороде", мы прежде всего, говоря словами Белинского, стремились более развернуто, перспективно выявить его главный пафос, идейную сердцевину, художественное своеобразие.
Удивительно, до чего наблюдательным, "цепким", точным оказался глаз поэта, проникающий в суть событий и фактов общественной, культурной жизни страны, ее литературу, искусство, технику, наконец, людские характеры, быт, историю Америки. Отсюда объемность содержания очерка "Железный Миргород", заключенная в выразительную, густо замешенную в слове, образную плоть прозы. Сколько явлений и вопросов получили обстоятельное освещение в "Железном Миргороде". Либо - развернутое, проходящее "сквозь" весь очерк (например, народ-творец и народ-исполнитель, "внешняя" и "внутренняя" культура Америки, "свобода" на американский лад, духовный мир "среднего американца", "выставочная" и подлинная Америка, поэзия и народная жизнь, Америка, Европа и завтрашний день России...); либо - локальное, касательное, штриховое (о человеке на Бродвее, американской прессе и рекламе, еврейской поэзии и негритянской музыке, полиции в Нью-Йорке, американском фокстроте и русских эмигрантах). При этом - всегда доказательно-убедительное и образно-эмоциональное. Выше, в подтверждение этого, приводились отдельные цитатные извлечения из очерка "Железный Миргород", позволяющие почувствовать, увидеть это наглядно. Их легко продолжить. Правда, тогда пришлось бы расцитировать почти весь очерк Есенина, в котором образ Соединенных Штатов Америки - Железного Миргорода XX века - возникает перед нами столь впечатляюще-зримо.
Заканчивая рассмотрение "Железного Миргорода", одного из выдающихся произведений в отечественной публицистике, остается только сожалеть, что Есенин, опять же не без "помощи" критики*, отказался от первоначального замысла продолжить очерк "Железный Миргород" и в следующей части "поговорить особо" о "той среде, которая называется рабочим классом"**.
* (Вскоре после того, как был опубликован "Железный Миргород", появилась рецензия - фельетон "Сергей Есенин в Америке. Личные воспоминания...". В издевательско-памфлетной форме в ней высмеивался рассказ поэта о зарубежной поездке.)
** (Об этом сообщалось в конце рукописного текста очерка "Железный Миргород". При первой публикации фраза была опущена.)
В заключение подчеркнем еще раз: очерк "Железный Миргород", по содержанию и стилю близкий к зарубежным письмам Есенина, - это правдивый художественный документ эпохи. Очевидна его огромная действенная сила - идейная, гражданская, эстетическая, - не только не убывающая со временем, а, наоборот, все возрастающая и возрастающая...
Недаром говорят: лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
Мне довелось посетить Америку спустя полвека после Есенина, с делегацией советских книгоиздателей. Были встречи, дискуссии с американскими издателями, литераторами. Побывали мы в Нью-Йорке, Вашингтоне. Высокие технические достижения США - впечатляющая реальность. Когда все это видишь своими глазами, потрясает безграничность человеческого разума, талантливость рабочих рук. Но еще больше потрясает другое. В мире сегодня особенно очевиден нравственный дефицит доброты и человечности. Кричащая бездуховность и нравственный кризис современной Америки заметны невооруженным глазом.
Не однажды, будучи в США, вспоминал я "Город желтого дьявола" Максима Горького, "Мое открытие Америки" Владимира Маяковского и, естественно, "Железный Миргород" Сергея Есенина.
Заметим, что ныне, в дни перестройки, руководствуясь "новым мышлением" и стремясь составить объективное представление о современной буржуазной Америке, некоторые наши журналисты, экономисты, социологи, публицисты, явно впадая из одной крайности в другую, начинают рисовать США этаким демократическим "раем" на земле, страной чуть ли не всеобщего благоденствия в нашем тревожно-трагическом веке, как бы забывая, что не Советский Союз, а "свободная", "демократичнейшая" Америка сбросила первые атомные бомбы на мирные японские города, что не мы, а американские империалисты ввергали весь мир, и прежде всего нашу социалистическую Родину, по существу в бессмысленную, антигуманистическую атомно-водородную гонку вооружений; что не СССР, а США вкупе с рядом западноевропейских стран и Японией "загнали" в бездонную долговую яму многие страны "третьего мира", стоящие ныне на грани финансового краха. Забывая многое другое, что касается истинной картины жизни современного американского общества, а главное - социально-классовой сути философии буржуазного прагматизма и бизнеса.
* * *
Все, что видел, с чем столкнулся, о чем так много и тревожно размышлял поэт во время пребывания в Европе и Америке, - все это нашло отражение в пьесе Есенина, задуманной им еще до заграничной поездки, в 1921 году.
О замысле этой пьесы и работе над ней мы узнаем из воспоминаний вдовы поэта, С. А. Толстой-Есениной, которая рассказывает: "Замысел пьесы "Страна негодяев" все время менялся по ходу работы. Пьеса была задумана давно. Она выросла из неосуществленной драматической поэмы. С. А. Есенин намеревался создать широкое полотно, в котором хотел показать столкновение двух миров и двух начал в жизни человечества. Такое расширение замысла у Есенина произошло после его поездки в США, о чем он мне не раз говорил... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую нью-йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гама сотни и тысячи сделок. "Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков, - говорил Есенин. - Что значат наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она - страна негодяев!"*
* (Толстая-Есенина С. А. Комментарии к стихам Сергея Есенина. Машинопись. Отдел рукописей Государственного Литературного музея.)
Над пьесой Есенин работал в 1922-1923 годах. В те годы она не была завершена. Позднее Есенин намеревался довести работу до конца и опубликовать пьесу. Смерть поэта помешала осуществлению этого плана. При жизни Есениным были напечатаны две сцены из пьесы, одна - под названием "Номах", а другая - "Страна негодяев". Автограф пьесы, которую поэт считал незавершенной, сохранился в архиве сестры поэта - Екатерины Александровны Есениной. В 1926 году этот вариант пьесы был напечатан в третьем томе Собрания сочинений Есенина под названием "Страна негодяев".
В отличие от лирической драмы "Пугачев" пьеса "Страна негодяев" - остропублицистическая, сильная своим сатирическим пафосом и духом современности. В пьесе нашли отражение многие стороны общественно-политической жизни нашей страны в те годы и получила отзвук идейная борьба, которая развернулась в то время в партии и стране по главному вопросу - путях строительства социализма в России. Зрелость, мастерство Есенина-драматурга проявились в том, что за внешне, казалось бы, авантюрно-приключенческим сюжетом (нападение анархической банды на поезд с золотом и погоня красноармейцев за грабителями) постепенно раскрывается глубинное идейное течение пьесы и развертывается ее главный конфликт большого социально-эпического масштаба. Две группы действующих лиц в пьесе: первая - красноармейцы, рабочие, комиссары золотых приисков и железной дороги Чекистов, Чарин, Лобок, во главе с коммунистом Рассветовым, и вторая - бандит Номах, его подручный Барсук и другие, а также обитатели тайного притона в приволжском городке, - выступают как две противоборствующие и непримиримые силы. Одни как бы олицетворяют рожденный революцией мир свободы, трудового братства и дружбы, а другие - старый мир "желтого дьявола", наживы, волчьих законов жизни, частной инициативы и бизнеса, образно названный поэтом "Страной негодяев".
Первых волнует вопрос о том, как быстрее возродить страну, победить голод, холод, разруху, бандитизм, они горячо спорят, как быстрее двинуть вперед дело индустриализации страны. Вся их жизнь устремлена в будущее. Вторые занимаются разгулом и бандитизмом, живут, освободив себя от всех обязанностей перед обществом, считают себя "гражданами вселенной".
Какова же позиция автора пьесы, отношение его к тем лицам, которых он вывел в "Стране негодяев"?
Есенин работал над пьесой в то время, когда зрение его, особенно после посещения Америки, "переломилось". Это отчетливо чувствуется в "Стране негодяев".
Все симпатии Есенина теперь на стороне правды Рассветова. Живая, активно действующая фигура коммуниста Рассветова - главная идейная и художественная удача Есенина в пьесе.
Героическое начало, которое постепенно накапливалось в творчестве Есенина ("Песнь о Евпатии Коловрате", "Марфа Посадница", "Товарищ", а затем, после Октября, - "Инония", "Небесный барабанщик", "Кантата", "Зовущие зори", "Пугачев"), в образе положительного героя "Страны негодяев" - коммуниста Рассветова выражено художественно ярко, многогранно и жизненно достоверно.
В первые годы после революции в произведениях наших писателей коммунисты часто изображались людьми в "кожаных куртках", в характере их обычно подчеркивалась одна черта - неукротимая воля (вспомним фигуру "каменного" командарма из "Падения Дайра" А. Малышкина).
Образ Рассветова, лишенный автором даже внешне каких-либо "камнеобразных" штрихов, значительно отличается от людей в "кожаных куртках". В ходе действия пьесы перед нами раскрываются многие замечательные черты характера Рассветова как коммуниста и все отчетливее вырисовывается его облик как патриота и верного сына родины, который полон смелых дум и замыслов о ее социалистических преобразованиях:
Чем больше гляжу я на снежную ширь, Тем думаю все упорнее. Черт возьми! Да ведь наша Сибирь Богаче, чем желтая Калифорния, С этими запасами руды Нам не страшна никакая Мировая блокада. Только работай! Только трудись! И в республике будет, Что кому надо.
Вера Рассветова в силы народа, разбуженного революцией, в будущее России продиктована его глубокой идейной убежденностью. Из того, что Рассветов рассказывает о себе, мы можем отчетливо представить, какой трудный жизненный путь, какую суровую школу классовой борьбы прошел герой. После революции 1905 года он отправился в "свободную" Америку. Там он испытал все прелести земного "рая" и навсегда возненавидел "класс грабительских банд". Отношение Рассветова к революционным событиям в России, его патриотизм, вера в Русь Советскую и вместе с тем гневное осуждение буржуазного мира - все это наиболее полно раскрывается в его монологе "Дело, друзья, не в этом", являющемся идейной вершиной пьесы.
Дело, друзья, не в этом. Мой рассказ вскрывает секрет. Можно сказать перед всем светом, Что в Америке золота нет. Там есть соль, Там есть нефть и уголь, И железной много руды. Кладоискателей вьюга Замела золотые следы. Калифорния - это мечта Всех пропойц и неумных бродяг. Тот, кто глуп или мыслить устал, Прозябает в ее краях. Эти люди - гнилая рыба. Вся Америка - жадная пасть. Но Россия... вот это глыба... Лишь бы только Советская власть!.. Мы, конечно, во многом отстали. Материк наш: Лес, степь да вода. Из железобетона и стали Там настроены города... . . . . . . . . . . . . . . . . . На цилиндры, шапо и кепи Дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, Вот где вам мировое жулье.
Рассветов в пьесе показан в действии, в идейных столкновениях и спорах со своими товарищами, в борьбе с повстанческой бандой Номаха. В отличие от Чекистова, Лобока, Замарашкина, Рассветов видит не только трудности, вызванные войной и разрухой, но, главное, пути их преодоления.
Нет, дорогой мой! Я вижу, у вас Нет понимания масс... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Здесь одно лишь нужно лекарство - Сеть шоссе и железных дорог, Вместо дерева нужен камень, Черепица, бетон и жесть. Города создаются руками, Как поступками - слава и честь.
По ходу действия пьесы Рассветов сталкивается с Номахом. Какова же его "философия" и общественная позиция? Номах недвусмысленно говорит об этом уже в самом начале пьесы.
...Я - гражданин вселенной, Я живу, как я сам хочу! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я теперь вконец отказался от многого И в особенности от государства... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мне до дьявола противны И те и эти. Я потерял равновесие...
Свой бандитизм Номах пытается прикрыть разговорами о справедливости. Готовясь к ограблению поезда с золотом, он лицемерно заявляет, что хочет "сделать для бедных праздник" и "утешить бедного и вшивого собрата". Позднее он забывает об этих громких фразах и говорит Барсуку, что часть золота "возьмет с собой". Остальное пока зарыть. После можно отправить в Польшу". Главарь анархистско-кулацкой банды Номах вынашивает "мысль о российском перевороте". Рассветов ведет борьбу с Номахом и его бандой не ради расплаты за грабеж, а для того,
Чтоб чище синел простор Коммунистическим взглядом.
Верный правде жизни, Есенин объективно, всем ходом изображения событий в пьесе показывает моральный крах Номаха, не говоря уже о Барсуке и других повстанцах. Вместе с тем в отдельных высказываниях Номаха, в частности в его монологе "Безумно? Пусть будет так", в какой-то мере отразились противоречия во взглядах самого Есенина на события, происходившие в стране в годы гражданской войны, особенно до его поездки за границу.
Как отмечалось, "Страна негодяев" не была завершена.
Есенин продолжал переделывать поэму до последних дней своей жизни, обдумывая план, меняя заглавие.
Сотрудник издательства "Круг" Д. К. Богомильский вспоминает: "Вначале 1924 года Есенин снова появился в нашем доме, бодрый и жизнерадостный. По его состоянию можно было заметить, что поэт над чем-то упорно трудится. Очень скоро стало известно, что Есенин работает над задуманной... им еще до отъезда за границу поэмой "Страна негодяев"... Более сорока лет прошло с тех пор, как Есенин читал у меня свою драматическую поэму "Страна негодяев". И теперь, когда пишу эти строки, мне кажется, что вижу поэта за столом, улыбающегося, наклонившего голову к рукописи и читающего..."
И. В. Евдокимов, редактор Собрания сочинений Есенина, вспоминает о работе над "Страной негодяев":
"Остановились; над поэмой "Страна негодяев". Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: "Номах".
- Это что? - спросил я.
- Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах - это Махно... И вообще я в корректуре кое-что исправлю.
- А мне жалко названия "Страна негодяев", - сказал я, - "Номах" - очень искусственно.
Впоследствии он опять восстановил название "Страна негодяев".
В дальнейшем Есенин предполагал перенести действие пьесы из России в Америку. Отрывок о нью-йоркской бирже, опубликованный Есениным в газете "Бакинский рабочий" 29 сентября 1924 года, говорит о возможности расширения границ пьесы. Но и в незавершенном варианте "Страна негодяев" - смелая попытка поэта показать "дорогу революции" и коммунистов, ведущих по этой дороге Россию. Тема Руси Советской, так широко представленная в творчестве Есенина в 1924-1925 годах, впервые отчетливо прозвучала именно в этой пьесе. А реалистический образ комиссара-большевика Никандра Рассветова стал одним из ярких героических образов в советской драматургии первых лет Октября.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"