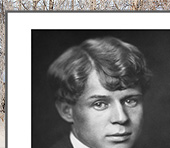


В. А. Чалмаев. Приглашение в весну
(Заметки об образах и "мелодиях" Сергея Есенина)
...В той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи.
...Срединная неоглядная Русь, "равнина дорогая", седой туман, стелющийся по стерне, оклик журавлиный в лиловом осеннем небе, долго пламенеющие гроздья рябины на опушках. Да еще россыпь изб вдоль бесконечной, теряющейся в просторе дороги, редкие огоньки, теплящиеся у самой земли. Дорогу в родное Константинове, в Спас-Клепики, где прошли годы ученичества, эти рязанские раздолья Есенин чаще всего, пожалуй, изображал при особом освещении, когда предметы словно утрачивают тяжесть, плотность, неподвижность. Это свет, при котором именно "луна золотою порошею осыпала даль деревень". Резок этот "свет луны, таинственный и длинный", при нем "плачут вербы, шепчут тополя" и даже сам ветер кажется серебряным...
Обжигающей яркости, острых впечатлений, ударов цвета и света поэт как будто избегает. "Серебряный ветер" рождает "мягкий шелковый шелест", "березовый шорох теней". В лунные ночи само счастье особое- "синее счастье". Иногда этот свет горький, бессильный- "и в чахоточном свете луны", "тонкий, лимонный лунный свет"... При этом свете идет и диалог с "черным человеком". А иногда эта же Луна, свидетельница другого безмолвного диалога героя ("Анна Снегина"), очарованного "загадкой движений и глаз", вдруг раздраженно, словно напоминая герою о том, что ураган прошел, что "слыхали дворцовые своды солдатскую крепкую мать", отрезвляет его и его собеседницу:
Луна хохотала, как клоун...
В этих повторениях, в неизменной "рамке" множества чувств и настроений ("Ах, луна влезает через раму...") заключено для поэта нечто весьма существенное. Убрать "вес", громоздкость предметов, очистить пространство для жизни души, дать единый колорит множеству разнородных стремлений. Это было важно...
В предисловии к поэме "Возмездие" А. Блок писал: "Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе создают единый музыкальный напор".
Пестрота словесная в поэзии, обилие слившихся, труднорасчленяемых словосочетаний, озадачивающие образы вроде "голова моя не может выжать штангу ушей", создают, как правило, трения, тесноту для поэтической мелодии. Все разумно, целесообразно у посредственных поэтов, у них нет даже повторов лейтмотивов, все притерто так, что нет звучащих пауз, нет этого музыкального роста, нарождения и угасания жизненных сил. Вариации образа лунного света, та сложная жизнь, которую "прожил" в есенинской лирике клен ("...стережет голубую Русь старый клен на одной ноге" или "клены морщатся ушами длинных веток") - все это знакомое, привычное, позволяет яснее выразить именно музыкальный напор, сделать поэзию, как писал один из искусствоведов, достойным музыки "соперником по захвату биения современной жизни".
Вероятно, огромнейшая доля содержания всей поэзии Есенина заключена в этой сложной игре, варьировании света и теней, постоянном стремлении смягчить, сгладить острые грани предметов, цветастую пестроту природы ради освобождения звуков, мелодий, всего того, что Тютчев назвал "созвучье полное в природе". По сути дела поэт, называвший себя "звонкий забулдыга-подмастерье", с удивительной последовательностью стремился не кричать, а скорее... слышать. Слышать и это "созвучье полное в природе", и певучесть, что есть в лесах, во всей огромной среднерусской равнине!.. Серебристый свет, лунная жидкость и неизбежная тишина как раз и обнажали одно чудесное свойство этого простора, где "синь сосет глаза", свойство, замеченное Пушкиным в его скитаниях. В этой равнине рождается особое раздумье, без ясно определяемой мысли, завораживающий мысль покой. Здесь сама монотонность, однообразие ("только версты полосаты попадаются одне") заставляли человека жить душой, сосредоточиваться, слышать один звук - "по всей длине и ширине твоей от моря до моря песню" (Гоголь), ощущать себя, "существом единого дня", со своими коротенькими мыслишками и чувствами, находящимся в разладе с куда более глубокой во всем природой, спрашивать:
Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?
Очень рано и стихийно Есенин открыл, что простор этот, перед бескрайностью которого, кажется, стушевывается само Время, утрачивает грозное величие Вечность, неожиданно легко покоряется именно песне, ею "расколдовывается" и самовысказывается до конца, раскрывается в богатстве и красоте. Она только, равнинная песня, возникающая из незримых, неслышных мелодий лесов и просто шелеста "четы белеющих берез", шума ветра, отбушевавших человеческих страстей, "звучащая" уже в причудливом орнаменте, цветном узорочье полотенец и скатертей, эта мелодия, легко "взлетающая" замысловатой резьбой на ставни и крылечки, на самый "конек" избы, способна сравниться беспредельностью, глубиной с этой далью, с безбрежным колыханием неба. "Безмолвными кажутся наши дорогие печальные поляны, особенно в зимнюю пору, но неслышно поют эти поляны и подпевает им печальная луна,- вспоминал Ф. И. Шаляпин.- Чем же согреться человеку в волнистых туманах?.. Вот тут, кажется мне, и родилась народная песня, которая согревала и сердце и душу. А разве тусклая даль этих равнин не будила воображения, без которого никакая песня не родится, не плела легенд и не обвивала ими русскую песню?"
* * *
Но само по себе стремление не кричать, не истолковывать логически те или иные явления, а как бы "высвобождать" звуки, голоса, настроения, спутанные и придавленные мелодии, не было в русской поэзии XX века необычным. Мысль о ритмическом нарастании "мускульной энергии", о "едином музыкальном напоре", формирующем поэзию, художественное целое стихотворения, мысль о создании неких всеохватных форм искусства под негласным главенством музыки возникала у многих поэтов, прозаиков начала века. Можно уловить воздействие музыкального принципа композиции, патетически напряженные интонации, некую ритмическую мерность и в русской живописи, и в театре. Защищая "музыкальную живопись", как он сам сказал, от принижающих ее оценок, А. М. Горький как раз в предреволюционные годы говорил: "А что же... Значит, пластика, ритм, музыкальность и тому подобное совсем не нужны реалистической живописи?.."
Иногда, правда, этот союз с музыкой приводил не просто к утрате сюжетной событийности, но и к беспредметности, к летучим, легко "сдуваемым", как шапка одуванчика, сцеплениям образов, слов. "Но звуки правдивее смысла",- писал В. Ходасевич. Этот принцип осуществлялся столь деспотично, что само слово становилось невесомым знаком, иероглифом, нотой. Музыка, сама по себе всеохватный, вместительный стиль становилась прибежищем смятенного сознания, испуганного "ужасом жизни". Поэзия доводилась до голого ритма.
Юный ученик Спас-Клепиковской школы ("сквозь синь окна желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру") входил в большую российскую словесность отнюдь не робким провинциалом. И взаимоотношения поэта в 1915-1917 годы даже с доброжелательно встретившими его в Петербурге известными литераторами - А. Блоком, А. Ремизовым, Н. Клюевым и др. полны глубокого драматизма.
В зрелом возрасте поэт способен и чуть осознанно высвободить звуки из безначальной стихии, привести их в гармонию и внести эту гармонию в мир как новую реальность. Нередко свою задачу он даже превращает в декларацию. Слова, образы- "опоры" для мелодии, просветы между словами- тоже существенны:
Цветы похожи на слова, И окружает, как безмолвье мира, Их безглагольная листва.
Но пятнадцатилетний Есенин, выводя строки одного из своих первых стихотворений, поражающие удивительной мелодичностью, полнотой чувства, был сам целиком во власти природы, ее далей, ее небесного свода; границ между листвой безглагольной и цветами он не знал. История поэзии, вероятно, не знала более органической взаимосвязи пески поэта и самых глубинных "мелодий" жизни, природы, чем внешне безыскусственное стихотворение:
Выткался на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется - на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, Сядем в копны свежие под соседний стог. Зацелую допьяна, изомну, как цвет, Хмельному от радости пересуду нет...
Мелодия живет в этих строчках, как солнечный свет, как сок в листве дерева, как течение в равнинной реке! Это тростник, поющий без прикосновения губ...
Но в этом поведении, органичности взаимосвязей строки и природы и было огромнейшее преимущество рязанского отрока над голой "пиротехникой", словесной игрой! Позднее, в рецензии на книгу П. Орешина "Зарево" Есенин скажет по поводу простых строк этого деревенского поэта о ветре, о тех, кто "под вешним солнцем в поле босой и без шапки идет за сохой" так: "Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина... Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу".
Музыка - стенография души... Но души не одинокой, не смятенной, не укрывающейся от времени, не ищущей мистических отгадок, прозрений относительно судеб родной страны, грядущего.
Открытая и загадочная российская деревня. В эти годы, предшествующие Октябрю, многие литераторы - и самые первоклассные - стремились как-то проникнуть в глубинную суть этой безбрежной равнины, "огромной деревни", хотя бы "воображением зацепиться" за какую-то грань ее жизни, истории, понять ее "песни ветровые". Судя по событиям революции 1905 года, роль этой деревенской Руси в судьбах страны и в будущем очень велика. Но зацепиться за этот простор созерцателю, "проходящему", так же трудно, как отыскать водопады на внешне неподвижных равнинных реках. Что для иного книжника жизнь мужицкая? Она не оставляет после себя ни пирамид, ни хроник. Хлеб, добываемый трудами на "черной, потом пропахшей выти" (пашне), съедается, деревни после частых пожаров выстраиваются заново...
"Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня - отрава для славянской души!" - писал И. А. Бунин в "Суходоле" о трудности "зацепления", выхватывания сюжетиков из жизни среднерусской равнины. Для книжника в таком случае простор оборачивается пустотой, он способен находить в нем только себя же.
Да, простор - это пустота, если не видеть того, как "хозяин хмурый" - жизнь в ее вечном и часто суровом движении - что-то буднично и незаметно изменяет, "кладет в мешок" или "изомнет, как цвет"... Надо видеть, как у ощенившейся суки "струился снежок подталый под теплым ее животом", как плетется она вслед за хозяином, утопившим этих щенят, "слизывая пот с боков". Надо "влезть" в шкуру дряхлой коровы ("свиток годов на рогах"), почувствовать ее последнюю "мечту":
Жалобно, грустно и тоще В землю вопьются рога... Снится ей белая роща И травяные луга.
Есенин все это знал; жизнь, как ветер, наносящий на берега Оки песчаные косогоры, "свей", по-своему "нанесла" в его сознание множество самых мелких подробностей народного быта. Он видит сразу все, что, скажем, происходит утром в хате:
Мать с ухватами не сладится, Нагибается низко, Старый кот к махотке крадется На парное молоко...
И удивительно ли, что, столкнувшись в иных петербургских салонах с условно-книжными, полумифическими, а порой и просто "балетными" представлениями о народной жизни, поэт испытал сложное чувство недоумения и протеста. Сам он в глазах публики тоже "чистая условность", Лель, кудрявый пастушок с непонятными, загадочными речениями - "драчоны", "дежка", "выть", "куга"... Словно была некая незаполненная "ниша", куда легко вписывали таких вот пастушков! Словно уступая складывающимся взглядам на себя, "дорисовывая" себя в угоду шаблону и моде, поэт пишет на дарственном экземпляре "Радуницы" (1916), своей первой книги пышно и нарочито: "Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок на память сердечную о сохе и паневе"... Он называет себя даже "баяшником соломенных суемов"... Но под этой видимой покорностью, игрой в титулы, угодные публике, в Есенине жила и неприязнь к этим вкусам, также к задаваемой ему роли.
Знакомейшая ситуация!.. Роль "ряженого" - в модерн или старину!.. Надо нести в душе глубокое чувство пути, чувство Родины, чтобы и в начале пути и в дальнейшем не удовлетвориться этой приятной, небезвыгодной ролью "ряженого", игрушечного самородка с его лапотками, нестрашным, не взрывающим покоя салонов "беснованием", своего рода поэтической распутинщиной... На псевдонародное "клюют", как скоро понял С. Есенин, даже премудрые книжные пескари...
"Любопытно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов",- признается Есенин уже в канун Октября, в июне 1917 года, другу, поэту А. Ширяевцу, отказываясь от навязываемой ему салонной роли, впервые осознавая: "Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина". В этом же письме он, еще сдержанно, правда, говорит о той тяге к озорству, о "хулиганском" стремлении напомнить этой элите (эго-Мережковским) о действительной народной жизни, о том, что "хлеб, что жрете вы, ведь мы его того-с... навозом". И позднее, в 1925 году, он все-таки скажет о том, как происходило его гражданское самоопределение, назревал его поединок с теми, кто привык к Лориган и к розам, к умной цитате, далекой от жизни:
Россия... Царщина... Тоска... И снисходительность дворянства. Ну что ж! Так принимай, Москва, Отчаянное хулиганство. Посмотрим - Кто кого возьмет! И вот в стихах моих Забила В салонный вылощенный Сброд Мочой рязанская кобыла.
Такие страсти зрели в юном парне - не как отрубь в решете средь непонятных им событий стремится он быть, а стать выразителем мужицкой гордости, труженических идеалов, надежд. И если уж заниматься "стихотворством" - делом зряшным, ненадежным, с точки зрения есенинского деда, матери, то так, чтоб вышло: "в далеком имени - Россия - я известный признанный поэт". Чтоб само родное село стало "лишь тем и знаменито, что здесь когда-то баба родила скандального российского пиита"... А. Мариенгоф был глубоко неправ, называя это постоянное - звонкое или усталое- самоутверждение щегольством, позерством нувориша. Есенин видел себя живым воплощением родной Руси, родины кроткой, ветвью, выброшенной в небо народным таинственным "древом", как он пишет в "Ключах Марии", а проще говоря народной жизнью. Он словно видит за собой сотни сверстников, тех "дурашливых, юных, что сгубили свою жизнь сгоряча", он принимает как наказ все безгласные вопли, муки (огромной низовой России. Этот глубочайший демократизм привел к органическому приятию Октября, к тому, что в решающем для крестьянства вопросе, вопросе о земле, герой "Анны Снегиной" - вместе с мужиками, вместе с Проном Оглоблиным, а не с последними обитателями "дворянского гнезда"! Хотя среди них и Анна (Лидия Кашина), "девушка в белой накидке", сейчас особенно одинокая, беззащитно-случайная в бушующем хаосе борьбы, уносящая с собой нечто прекрасное, неповторимое, то "несказанное, синее, нежное", к чему сам поэт прикасался еще недавно с невыразимой нежностью:
Не знаю, зачем я трогал Перчатки ее и шаль...
В теплице неоткуда завестись перспективе, даже суровой перспективе добывания хлеба насущного, когда нередко еще приходится жертвовать красотой - "режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей". Весь путь поэта - это поиск исторической перспективы для Родины, высоты - на нее порой приходится восходить из трюма ("тот трюм был русским кабаком"), путь осознания величия рулевого, "капитана земли" - Ленина.
* * *
В переломные эпохи лирический поэт имеет обычно массу причин, поводов, чтобы, как говорят, "ударить кулаком по клавишам", т. е. перейти на язык прямой публицистики. Хочется "сократить" путь строки, пришпорить ее рост - поэт начинает искать в лирике плакат, сразу показывающий температуру времени. Есенин всегда искал в лирике лирику, он верил в безграничные возможности эмоциональных мелодий, звуков, идущих от души к душе другой, верил в силу спокойных равнинных рек. Он черпал эту уверенность из ощущения родниковой бездонности любого образа, взятого в народном быту, он нередко с удивлением и радостью обнаруживал новые и новые оттенки в простом!
В 1914 году, как намек, как догадка, мелькнул у поэта образ - "в звенящей рожью борозде"... В дальнейшем путем легкого, естественного сближения этой звенящей ржи с лебяжьей мягкостью, белизной образ обогащается, преображается - "звенит лебяжьей шеей рожь"... Но рожь не объект поклонения, не тепличный злак. И вот уже "режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей", вот уже "коса в лугах скачет, ртом железным перекусывая ноги трав"... Но в других случаях на душе поэта светлеет - едва наступает "угомон" в стране, знакомый образ опять преображается: уже и не рожь, не нива, златящаяся во мгле, связана с "лебяжьей нежностью", а та же "девушка в белой накидке".
...Ты меня, незримая, звала. И меня твои лебяжьи руки Обвивали, словно два крыла.
А как "бездонен" образ березки, страны березового ситца! Магическая, завораживающая сила есть в этом изменчивом течении мелодий, в "струении" образов, ведущих свою особую жизнь. Лунный свет, сиреневая цветь души действительно нужны поэту: музыка, как известно, не терпит громоздкой предметности, лишь звучащее, а не читаемое слово способно нести "белых яблонь дым", "костер рябины красной", "грезящий коноплянник", "море, полыхающее голубым огнем"... Чтобы усилить еще более музыкальное звучание строки, поэт смело, не боясь "слов с подолом грязным" вводит ритмы, интонации городских "жестоких" романсов, использует неистовую напряженность цыганской песни, напевность, "открытость" русских народных песен.
По сути дела вся первая книга поэта - "Радуница" (1916) построена композиционно согласно "музыкальному" принципу, заложенному в орнаменте, вышивке, резьбе по карнизу. Эта резьба - "шествие"! Фигурки - собака, корова, клен, березки, луга, пашни - повторяясь, сочетаясь в группы, образуют свой ритм, почти музыкальное звучание. Воистину сюита, шествие - эти лирические зарисовки! И музыкальность их усиливается тем, что рядом с достоверными "ржаными закутами" идут образы такого плана: "синь, упавшая в реку", "голубая струя моей судьбы", "озерная тоска", "младой весны младые были", "малиновое поле", "взмах воздушных крыл", "молитвословный ковыль" и т. п. Удивительный "ковер", красочный и легкий, прочный, достоверный и волшебный! Тут Саврасов словно соединен с Рублевым:
Синее небо, цветная дуга, Тихо степные бегут берега, Тянется дым, у малиновых сел Свадьба ворон облегла частокол... Край мой! Любимая Русь и Мордва! Притчею мглы ты, как прежде, жива. Нежно под трепетом ангельских крыл Звонят кресты безымянных могил.
И напрасно полагают, что влияние церковнославянских речений было сплошь отрицательным: оно также помогло преодолеть бытовизм, заземленность... Звук божественный старокнижной речи был внутренним камертоном поэта, он постоянно возвышал сами эмоции поэта, вплетал в ткань его стихов нить крепчайшую, невыцветающую.
И часто я в вечерней мгле, Под звон надломленной осоки, Молюсь дымящейся земле О невозвратных и далеких,-
писал поэт, вспоминая о надломленных библейских хлебах и возвышая свою любовь к земле до молитвы. И эти два слова сразу "держат" строку, возвышают эмоцию! Без этих "дрожжей" и само святотатство поэта, его богоборчество, как и "романсовость", были бы пресными. Точно так же "опочила" вместо "уснула" возвышает и всю строку "Золотая дремотная Азия опочила на куполах", и все стихотворение "Да, теперь решено, без возврата...".
Характерно, что это единство предметности и музыкальности мира в поэзии Есенина создается нередко теми же средствами, что и в прозе его старшего современника И. А. Бунина.
Повести и рассказы Бунина - это замечательная страница русской литературы, они поучительны прежде- всего тем, что зримость предметов, явлений доведена до такой степени совершенства, что по сути дела перешла в музыку. Реальный мир, обыденное пространство словно исчезают, чтобы утратить тяжесть, житейскую угловатость и воскреснуть в новом единстве, слитности как особое, звучащее вещество. Не вынося так называемой поэтической прозы с ее размягченностью, буйством произвольных метафор, Бунин по-своему исключительно поэтичен, напевен, царственно строг и звучен в высшем, державинском плане.
Когда-то А. К. Толстой сетовал на то, что есть известный предел для слова, ограничивающий его власть над жизнью, над ее движением:
Не поймать на лету ветра буйного, Тень от облака летучего Не прибить гвоздем ко сырой земле...
И уж тем более не закрепить на странице русские весны, зимы, живописные народные характеры с фигурной озорной манерой мысли! Но Бунин с удивительной легкость мог словно на лету поймать в "словесную снасть" все, закрепить в сознании самую малую малость из жизни природы, крестьян, дворянства.
И поэту наших дней нельзя не учиться у Бунина искусству воспроизводить зимы и весны, летние "дождички" и крещенские морозы. Его пейзажи - это целый озвученный мир, он жил его красотой и строил мир красоты из самого обыкновенного, считавшегося даже низменно-заземленным. "Ткань" его пейзажей не была однообразной, она отражала все перемены в его душевном состоянии.
Какой-то единой, хотя и разнообразной, вариацией на тему весны, сюитой весны, кажутся, например, его весенние пейзажи. Художник как будто никак не может утолить свою жажду, он нетерпеливо ловит ускользающий главный смысл этой недолговечной летучей красоты.
"Был канун прощеного дня. Масленица выдалась поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра грело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капели. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник застыл в дремоте",- пишет Бунин в рассказе "Игнат". Здесь еще много устойчивого, толстовского, прочного, мир еще не сдвинут, не смещен, не утратил "мирные глаголы". И глаголы - "грело", "сияло", "капали" обозначают некие родовые, мирные приметы весны, это, так сказать, главные колокола, они только и звучат. "Подголоски", настроения связаны лишь с одним "посиневшим", да еще "застывшим в дремоте" палисадником, - это уже типично бунинское, летучее, "взвешенное", вещество, плоть мира, сохранившая красоту, но утратившая "тяжесть".
В дальнейшем - и не случайно - возрастает роль именно такой ткани, зыбкой, мерцающей, как марево, легкой, но сохраняющей все реальные пропорции, взаимодействующей с прочными, коренными красками... Четкое, не размытое никакими настроениями письмо соседствует с поющими красками, с очень личными, экспрессивными описаниями. Пейзажи средней России превращаются в портрет одной цельной души, изнемогающей и от жажды слиться с этой природой, с "раем неведения", и все время вырывающейся из телесной оболочки, истончающей саму эту оболочку. Мысль и чувство "сжигают" плоть, разоряют ее.
"Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-лиловеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь" (подч. мной. - В. Ч.), - читаем мы в "Митиной любви". Здесь сплавлены воедино целых три разнохарактерных стилистических потока- и нечто устойчивое, реальное ("липкий снег", "сколотый лед"), и деталь, напоенная тоской, мечтой, мятежной любовью ("влажно-лиловеющее небо"), и высокоторжественная, чисто "духовная", иконная краска ("благостная задумчивость" высящегося Пушкина, сияние монастыря).
Это подлинная магия колорита, переходящая в музыку. Неизменным остается привычное бунинское сближение - не нарочитое, а естественное - "теплого", земного, и "холодного", возвышенного, бездумно-растущего, смеющегося, и начала, отягченного глубокой мыслью и настроением, "выпавшего" из неведения природы, истончаемого мыслью и чувством.
Но в отличие от безымянных авторов орнамента, традиционных "сюжетов" узорочья, слившихся с "музыкой" рукотворной своих изделий, Есенин уже в ранних сборниках выделился духовно из "шествия", он уловил предгрозовую атмосферу вокруг этой "кроткой Руси". Его уже посещает мысль: а не есть ли эти бредущие богомолки, эти невесты, в чьих глазах, как свечки, теплятся надежды, эти пахари, идущие на империалистическую бойню,- не просто идущие куда-то фигурки, а Русь "уходящая"?..
Любопытно, что все чаще к колокольному звону, оглашающему сумрак равнин в мире есенинской лирики, примешивается и иной, жестокий звон - "звон кандальный"... Кого гонят, кто гремит кандалами по Владимирке, что за государевы преступники бредут с "бубновыми тузами" на спинах - об этом юный поэт еще не говорит. Он вообще включает тюрьму и острог в поле своего зрения как традиционную реальность, исходя из смиренной, взращенной в бедах бедняцкой"мудрости": "от сумы да от тюрьмы не отказывайся". И на Руси, по мысли поэта,-
...не выжить тому, кто разлюбил твой острог и тюрьму.
Но этот "огонь", эта трещина в тверди идиллии старого мира, огненность, нависшая над миром, в том числе и над дорогой поэту страной березового ситца, влечет его, как бабочку костер. Гроза близка, она может сгубить и его, но без бури мир плесневеет, задыхается.
И поэт впервые задумывается: Все они убийцы или воры, Как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры С впадинами щек. Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу. Под осенний свист. И меня по ветряному свею, По тому ль песку, Поведут с веревкою на шее Полюбить тоску...
Откуда это роковое предчувствие? В дальнейшем поэт без конца будет твердить о себе, что "если б не был я поэтом, то был бы разбойник и вор", что "был он авантюрист, но самой высокой и лучшей марки" ("Черный человек")... Все это, бесспорно, идет и от эпохи и от крепкого убеждения в том, что само ремесло поэта, резко выделившее его, "укравшее", как коня, у деда, у земли, у села, несет нечто преступное! И сколько искренних мук в есенинских бесчисленных оправданиях перед матерью, перед дедом, что он, поэт, детей по свету растерял, сколько стыдливого покаяния! Внешне они как будто тщеславны (это только и заметил А. Мариенгоф), а по существу... Этим выделением, выпадением из рода, из норм традиционной патриархальной жизни поэт родствен отступнику. Малейшая этическая необоснованность, пустота своих занятий, праздное упоение "дохлой лирикой" вызывает в Есенине сознание роковой, преступной оторванности от народа, никчемности, призрачности того, "чем я живу и чем я в жизни занят"...
И потому поэт так часто уверяет, что "я хожу в цилиндре не для женщин... в нем удобней, грусть свою уменьшив, золото овса давать кобыле", что в любой момент он готов - "к черту снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу"...
* * *
Россия! Сердцу милый край!..
Годы революции и гражданской войны проходят через лирику Есенина во всем богатстве социальных и человеческих отношений. В эти годы родная земля, "утратившая мирные глаголы", изрыта как оспой ямами копыт. Души людей тоже подвергнуты сложным испытаниям. О глубине испытаний, о ломке старых верований говорит даже то, что после революции рядом с образами звенящей златой Руси вдруг мелькают у Есенина и такие резкие слова противоположного плана, чуждые всякой идиллии:
Россия... Дуровая зыкь она.
Мелькает в той же "Анне Снегиной" и Лабутя, брат Прона, ловкий приспособленец, гордящийся то царскими медалями, полученными под Ляояном, то вдруг... революционным прошлым, каторгой ("Хрипел под сивушной банкой про Нерчинск и Турухан"). И в этой поэме, и в драме "Пугачев" поэт отмечает и черты пассивности, рабского стяжательства в мужике, резко расходясь в этом вопросе с автором "Избяных песен" - Н. Клюевым.
Вообще в есенинской социально-исторической панораме множество точных, глубоких по смыслу ситуаций, фигур, прозорливых суждений. Развал фронтов, бегущие домой солдаты, и Керенский, который именно "калифствовал" на белом коне. Дворцовые своды, слышащие "солдатскую крепкую мать", и "горластый мужицкий галдеж" в деревне после Февраля:
...Кричат нам, Что землю не троньте, Еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте Мы губим себя и других?
Эти жаркие, настойчивые вопросы словно "излетают" из разгоряченных мужицких сходок. А как очевиден бесплодный волюнтаризм троцкиствующего деятеля Чекистова в "Стране негодяев", изнывающего среди этих бесконечных просторов, брюзжащего, что странный и смешной здешний народ жил нищим и строил храмы божий, не настроив приличных туалетов... И наконец, самое яркое выражение зрелости социального мышления поэта, глубины его приятия революции, "коммуной вздыбленной Руси" - образ В. И. Ленина, мудрого рулевого, капитана земли и в то же время "застенчивого, простого и милого". Достаточно вспомнить внеисторический, по существу, иконописный клюевский образ Ленина, чтобы понять насколько народнее, значительнее был Есенин в каждом своем выводе.
Все это так, но рядом с этим - "Кобыльи корабли", апокалиптическая картина ужасов, когда даже солнце померкло, когда поэту неясно - "Русь моя? кто ты? Кто?", цикл "Москва кабацкая", искренняя самооценка своего пути - "...с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий?".
Взгляд на есенинскую лирику 1923-1925 годов, на его личную судьбу как воплощенное поражение деревни в столкновении с городом - "деревенский глиняный горшок", мол, разбился о чугунный город,- по сути дела принижал духовную проблематику поэта и обесценивал насильственно его поэзию. Надуманной, искусственной является и концепция о "соперничестве паровоза и жеребенка в поэзии Есенина". Безнадежное отставание жеребенка, патриархальной деревни, крушение идеалов "мужицкого рая" - якобы главный источник печали поэта, центр его вселенной. Это все заведомо "тупиковые" сопоставления, не способные объяснить вечной молодости, свежести, красоты и мудрости есенинских шедевров... Что же, мы любим в этой лирике "черепки" от разбитого горшка? Или вздыхаем о безнадежно отставшем жеребенке? Ведь поэт сам говорил о себе:
Вихрь нарядил мою судьбу В золототканое цветенье...
Объяснить эти противоречия следует, вновь исходя из музыкальной природы его поэтической мысли, а не из абстрактных извлечений его идей.
Холод абстракций был всегда чужд поэту, он сам признавался, что "холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня". Совершенно холодными, мертворожденными кажутся все стихи поэта, навеянные утопическими идеалами особого "мужицкого рая", "вознесения и преображения духа". Натужно все это богохульство, сочетавшееся с какими-то наивными пророчествами, угрозами "железному гостю" и т. п. Живое начинается там, где поэт эмоционально, с поразительной чуткостью пишет о судьбе нравственных богатств, о сокровищах души, о сложном, совсем не прямом, не гармоничном процессе рождения новой личности, о красоте природы и чувств человеческих. Рок событий вызвал в поэте тревогу не за патриархальщину старой деревни, не за младенческую чистоту ее и тем более не за кулацкий уклад, а за те прекрасные, труженические в основе чувства, что рождали и коровы, "грусть соломенную теребя", и "синий май", "овсяная гладь", и "роща золотая", за все, что издавна не только облекало душу в плоть, но создавало эту прекрасную душу в человеке.
Коростели свищут... Коростели... Потому так и светлы всегда Те, что в жизни сердцем опростели Под веселой ношею труда.
Поэт словно знает, что для такого "опрощения" человека природа создает целый океан красоты, и если исчезнут хотя бы эти вот коростели, эта березка, то... Поэту воистину тревожно тогда и за любовь, за половодье чувств, за песню, за весну.
Мне страшно - ведь душа проходит, Как молодость и как любовь.
В числе наивысших ценностей, о судьбе которых наиболее напряженно, постоянно тревожится поэт, обретая временами высоту пушкинских и тютчевских жизнеощущений, была любовь, как самое яркое выражение красоты жизни. Для поэта по сути дела равнозначно - "Излюбили тебя, измызгали" и "Напылили кругом, накопытили...". Что бы ни свершалось в жизни - все отразится в зеркале чувств! И весь цикл "Москва кабацкая" - самый мучительный, свидетельствующий о глубине отчаяния поэта, когда он словно видит "жизни край", рожден прежде всего гуманистической тревогой - не погибли бы в хаосе борьбы красота, моральные ценности, не перешли бы люди на нравственные трафареты, инерцию - "многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня"... Страшны эти полуфабрикаты чувств, заменители их! И человек до тех пор прекрасен, пока перед его взором способен именно выткаться "алый свет зари", вспыхнуть пожаром обычный рябиновый куст, пока он нежно грустит в разлуке, а к "зверью, как братьям нашим меньшим" испытывает родственную теплоту. Страшно смотреть в душу, в которой, как говорил Тютчев, "вымирают все лучшие воспоминания"... Есенин стремился- даже в годину разрухи - не дать вымереть этим воспоминаниям, погаснуть этому утреннему свету.
Кричащие противоречия между реальностью и мечтой звучат в лирике поэта. "Молодая красивая дрянь", "пускай ты выпита другим", "но с такой вот, как ты, со стервою", "чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела", "напоенная лаской ложь",- говорит поэт, но в душе его все время, даже при виде совсем уж ограбленных женщин, оживает, как надежда, иной, идеальный, образ любимой. "Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила?" - спрашивает поэт у собаки Джима как у младшего, не солгущего никогда собрата. "Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз злато-карий омут"; "Но своей величавой походкой всколыхнула мне душу до дна",- эти образы, почти воздушные, бесплотные, скорее какая-то проекция мечты, сменяя друг друга, проходят через всю лирику Есенина. Героини поэта удивительно хрупки, воздушны, они, как тот давний юношеский свет зари, словно "выткались" из солнечных лучей, синевы, идеальных ожиданий человека.
Трудно видеть следы есенинских женщин на земле, она, земля, вся кажется поэту слишком грубой, неприбранной для них, он боится, как бы не угасло "сиянье твоих волос", что сотрется "облик ласковый! облик милый...". Так же трудно рафаэлевской мадонне ступить на землю! Поэт понимает, что в кабак нельзя внести нечто идеальное, не унизив этого идеала, и потому он внешней циничностью, "развязностью", как туманом, окутывает "снов золотую сумму". И никогда, ни в чем он не винит женщину, даже самую оскорбленную, несчастливую, угадывая в ее природе нечто таинственное, нежное, остающееся, как правило, совершенно непонятым массой случайных ее любимых:
Знаю я, они прошли как тени, Не коснувшись твоего огня...
Любовь - это великое прозрение, это легкое дыхание, снимающее, подобно лунному свету, тяжесть с предметов, вещей, просветляющее житейскую муть. И если есть этот свет любви, то и сам есенинский кабак - это вовсе не удручающий реальный кабак, ужасающий варварством при всем его "чистосердечии". "И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милой". Как много во всем этом чувстве, пронесенном сквозь годы ломки, годы тяжелых нравственных, испытаний, редчайшей чистоты, доверчивости, открытости! Едва ли прав был даже Горький, когда снисходительно считал ту же Айседору Дункан, "Царицу жестов", воплощением всего, что не нужно было Есенину... Жесты, самые механические, еще не все. Детство как спасение от ожесточения души жило и в ней.
Сила и очарование всех этих стихов о любви - в драматическом, родственном народным песням противоречии между грустью содержания и яркостью, здоровьем, силой чувства. Костер рябины красной никого не может согреть?! Но сама мелодия строк отрицает это! В лирике Есенина форма соответствует содержанию в каком-то особом смысле: напевность, душевная просветленность, молодость просто отрицают мрачный конечный смысл многих стихов! Поэт все время прощается - то с любимой, то с молодостью, то с родимым краем, то с жизнью, говорит, что он "очень и очень болен", а потому:
Мир тебе, отшумевшая жизнь. Мир тебе, голубая прохлада.
Но ведь и эта "отговорившая" роща золотая и внешне опустошенные прожитой жизнью женщины, и равнин пески, и сами стихи поэта, листья, которые время, может быть, "сгребет в один ненужный ком" - все это живее живых, все полно биения неистраченных страстей, это приглашение в весну! Искушая судьбу, саму молодость призраками небытия, поэт обнажает вечную молодость Родины, утверждает, что хорошо "живется на Руси", даже "свирепствуя и мучась".
И, Бунин в рассказе "Косцы" тонко отметил подобное противоречие, глядя на рязанских косцов, поющих грустную песню о разлуке, о том, что все пути молодцу заказаны: "Ты прости, прощай, родимая сторонушка! - говорил человек - и знал, что куда бы ни забросила его доля, все будет с ним родное небо, а вокруг - беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованого, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством".
Стихотворение "Клен ты мой опавший", может быть, наиболее ярко подтверждает это ощущение единства поэта и "балующей" его природы, вечно близкого человеку теплого неба родины.
Неоднократно отмечалось уже, что оптимистическое настроение поэта резко усилилось после возвращения из Америки в 1922 году, когда поэт убедился, что все наши домашние "злодейства", кабацкие муки - детская забава перед этим деляческим смрадом, "где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества".
Известны все оценки буржуазного комфорта, индустрии удовольствий, которые высказал Есенин после поездок за границу.
"...Родные мои! Хорошие!
Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотством? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет...
Здесь все выглажено, вымазано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички сидят, где им позволено; Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией"...
Но, вероятно, это неприятие безмузыкального буржуазного мира вновь станет более очевидным в своем главном смысле, если мы прочтем параллельно этим письмам давний бунинский рассказ "Господин из Сан-Франциско".
В рассказе "Господин из Сан-Франциско" Бунин, со своих, естественно, позиций, показал американизированный уклад психики, формы человеческого общения, которые не менее отвратительны, чем пьяная широта души, кабацкое чистосердечие надломленных нищетой мужиков.
Этот безликий герой, достигнув к пятидесяти восьми годам известного положения, едет в Европу потому, что с такого рода поездок начинали наслаждение жизнью все люди его круга. Стандартное желание, стандартные ожидания комфорта, услуг, организованных соблазнов для неглубоких волнений. Это конвейер эмоций, индустрия отдыха, где ты так же учтен и расфасован, как всякая продукция. Весь пароход - громадный отель с набором удовольствий, с каскадом развлечений, по которым растекается - и ни шага в сторону! - вся эта толпа в пижамах, в смокингах, фраках... Стандартные, не исходящие от личности развлечения, таблички к барам, к бассейнам, управляющие желаниями, всесильная реклама, создающая эти желания, намерения, круг спутников, где была изящная влюбленная пара, специально нанятая, чтобы играть в любовь... Повсюду сквозь эту оболочку нарядной жизни, сквозь поток удовольствий проглядывает одно: деньги, деньги, деньги! Герой и его семья читают эту просьбу, ожидания, убивающие всякие иные чувства, возможность доверия, возможность душевного контакта, в глазах официантов, извозчиков, в поклонах элегантных хозяев отелей, в платных улыбках гидов... Смерть героя, оцененная заметавшимся хозяином отеля как "пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско", и последующее стремительное выселение его семьи из роскошных апартаментов - все лишено и признака духовной значительности. Ни единое лицо не осветилось подлинной тревогой, ни единой думы самого героя, его родных, окружающих о роковой черте между жизнью и смертью писатель не нашел возможным воспроизвести. Тут некому и нечем страдать!
...Были, конечно, среди стихов Есенина 1924-1925 годов стихи, в которых звучала грусть о прошлом, боязнь, что в той стране - будущем царстве города - "не будет этих нив, златящихся во мгле", что "злак овсяной, зарею пролитый" сгребет черная горсть...
Не живые, чужие ладони, Этим песням при вас не жить!
Но уже входили в его мир и герои, в которых Русь осознавала себя не кроткой, а героической, способной создать новую красоту, новый строй чувств. В трагедии "Пугачев" с буквально "огнепальным", рвущимся к свободе каторжником Хлопушей, в "Анне Снегиной" с Проном Оглоблиным, "костящим" дряблый мужицкий мир, поэт находит героев, способных выправить бег корабля, отстоять - без тени исторического сентиментализма - этот новый мир от мировой биржи, от кораблей безверия, расползающихся из "Железного Миргорода".
И бесспорно, одно из выдающихся достижений, венчающих все озвученные диалоги поэта "с женщиной ",- просветленный и сдержанно-страстный цикл "Персидские мотивы". Это гимн красоте, женщине, чья любовь становится высшей истиной жизни, выражает меру человечности самого общества, меру благосклонности его к миру и людям. Это поистине трогательная, изящная литургия красоты, благодарность чуду красоты, воплощение покорности перед "гением чистой красоты ":
Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи Я нисколько не чувствую боли.
В мечтах своих, подобно великому Хафизу, подобно автору "Бустанна" Саади, он создал идеальное царство, соловьиный сад, где "тихо розы бегут по полям", где "нежность как песня Саади". И показателем глубокого сдвига в душе поэта было то, что отступили былые кошмары, что уже "не под горло режут лебедей", а наоборот, этот образ просветляется, переосмысляется, возникают уже "лебяжьи руки", обвивающие любимого.
* * *
Сергей Есенин - это извечное приглашение в весну. Он жил, как и всякий великий народный поэт, принимая на себя обязанности, заботы, нередко вовсе не вытекающие из его непосредственного временного бытия. Он брал обязанности - и не образно только - перед потомками, перед теми, кому жить и жить на бескрайних просторах родной земли, поклоняться стыдливой красоте ее берез, звенящей в борозде ржи, луне, озаряющей снега. Эта обращенность к будущему, любовь к России создавала его чудесное "слишком", выразившее сам богатырский дух страны, народа:
Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть.
Поэзия наших дней, нередко ищущая союза с соседними музами - с кино, плакатом, театром, телевидением, нередко обретающая такую интеллектуальность, что исчезает всякая напевность, тревожащая глубина образа,- очень редко ищет союза с музыкой, с самым естественным своим союзником. Имитацией этого союза является впихивание слова в метрические колодки текстов для песен-однодневок. Равно как и частушечные ритмы, измочаливающие слово,- наивное приближение музыки к поэзии!
Есенинское искусство перевода в звук, в музыку всего, в чем есть душа, его магическое произнесение уже первой строки - "Несказанное, синее, нежное" - остается вечно необходимым богатством и поэзии и человеческой души. Человечество вечно "голодно" любовью к красоте, к духовности, жадно впитывает все идеальное, ведущее к совершенству. И Есенин "сеял", словно зная, что потомки соберут "урожай" нежности и заботливо, бережно его сложат в свои сердца.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"