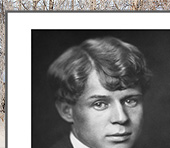


Т. С. Есенина. Зинаида Николаевна Райх
Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания.
Актриса Зинаида Райх хорошо известна тем, кто связан с историей советского театра, ее сценический путь прослеживается месяц за месяцем. Но до 1924 года такой актрисы не существовало (свою первую роль она сыграла в возрасте 30 лет). Образ молодой Зинаиды Николаевны Есениной, жены поэта, трудно восстановить документально. Ее небольшой личный архив пропал в годы войны. До того возраста, когда охотно делятся воспоминаниями, Зинаида Николаевна не дожила. Я немногое знаю из рассказов матери.
Мать была южанкой, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала высшие женские курсы. Вопрос "кем быть?" не был еще решен. Как девушка из рабочей семьи, она была собрана, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.
Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди ее подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мятущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала бездну. Одним из любимых ее писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.
Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая "Войну и мир", кому-нибудь повторяла: "Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?"
Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарем-машинисткой в редакции газеты "Дело народа". Есенин печатался здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать разговорился с сотрудницей редакции.
А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович, со свойственной ему непосредственностью, отмахнулся:
- Ладно уж, я лучше здесь посижу...
Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.
Есть ее снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, "в десять раз красивее".
Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на "вы", встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.
В июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю ("Небо ли такое синее или солью выцвела вода?"), он был не один, его спутниками были двое приятелей (увы, не помню их имея) и Зинаида Николаевна. Я нигде не встречала описаний этой- поездки.
Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:
- Я хочу на вас жениться.
Ответ: "Дайте мне подумать" - его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму - "Вышли сто, венчаюсь" - их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь - на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка.
Вернувшись в Петроград, они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумию. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу "не мешать". Но все это длилось недолго, они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришел вместе с ней в редакцию и заявил:
- Больше она у вас работать не будет.
Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.
Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню ее внимательные, все замечающие и все понимающие глаза, ее постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, а если они не находились - улыбка, голос, все ее существо договаривали то, что она хотела выразить. Но в ней дремали вспыльчивость и резкая прямота, унаследованные от своего отца.
Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок - "Я бросил в ночь заветное кольцо") и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: "Какие же мы были дураки!"). Но по мере того, как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово "узнавали" не все исчерпывает - в каждом время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло.
(С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни. Впрочем, вскоре они на некоторое время расстались. Есенин отправился в Константиново, Зинаида Николаевна ждала ребенка и уехала к своим родителям в Орел.
* * *
Родители Зинаиды Николаевны являли собой полную противоположность друг другу.
Мать ее, Анна Ивановна, в молодости была стройной блондинкой, ровного и мягкого характера, но из-за раннего сиротства была немного обидчивой и замкнутой. Она была дворянского происхождения, по отцу Викторова, по матери Евреинова.
По материнской линии у Зинаиды Николаевны было множество родственников, с которыми жизнь ее, правда, мало сталкивала. Любопытной фигурой был брат Анны Ивановны. Он несколько раз получал крупное наследство и тут же его проматывал, при этом его огромное семейство впадало буквально в нищету. Жена приносила ему в год по ребенку - всего их было двадцать два, но некоторые умерли младенцами. Понимая, что ему не поднять их своими силами, он стал возлагать надежды на тех "святых ангелов", чьи имена давались детям. Например, троих из его сыновей звали: Никтополеон, Аксакусстодиан и Анемподист. Предполагалось, что ангелы, имеющие мало подопечных, могут не распыляться и будут щедрыми в своем покровительстве.
Анна Ивановна наследств не получала, была бесприданницей. В детстве ее, как сироту, опекал дядя, брат отца, директор Румянцевского музея. После его смерти ей пришлось бросить гимназию. Какое-то время она провела в Орле, приживалкой у старшей замужней сестры, а в возрасте 23 лет, с кем-то списавшись, двинулась на юг в надежде начать самостоятельную жизнь.
В поезде ей встретился высокий чернобровый моряк, живой, остроумный и обходительный. Кажется, они уже больше не расставались.
Август Райх (ему в то время было 29 лет) работал пароходным машинистом. Не знаю, сказал ли он бабке перед свадьбой, что дважды успел побывать в политической ссылке.
Дед был лютеранского вероисповедания. Чтобы пойти под венец с Анной Ивановной, он принял православную веру и стал Николаем Андреевичем. Из родни у него была только мать, плохо говорившая по-русски; воспитанный ею, дед свободно владел немецким языком. Отца своего он не помнил.
Зинаида Николаевна, ее младшие брат и сестра родились в Одессе. Дед имел высокую квалификацию, работал как вол и задался целью дать детям образование. Ему приходилось быть машинистом не только в пароходстве, но и на железной дороге, а большую часть жизни он проработал слесарем. Его хватало и на другое. Он всю жизнь занимался самообразованием, много читал. Из принадлежавших ему книг помню "Историю цивилизации в Англии" Бокля.
У него была, видимо, врожденная способность к языкам. Помимо немецкого он немного говорил по-польски. В старости он устраивал нам с братом целые "вечера самодеятельности" - пел юмористические песенки на украинском, белорусском, еврейском.
Над дворянством своей жены он посмеивался, говорил, что оттуда ей передался один лишь дух расточительства, сгубивший ее брата,- Анна Ивановна любила хорошо одеться и старалась, чтобы дети тоже были красиво одеты. В старости дед был по-смешному скуп в мелочах. Но по большому счету он был очень добр и человечен и до конца жизни вечно кому-то помогал. С какими-то интересами своей жены он считался. В молодости она немного пела, сама себе аккомпанируя, и он ей брал напрокат пианино. У детей были велосипеды, что тогда было редкостью и вызывало зависть в куда более обеспеченных семьях.
Дед, всем на свете интересовавшийся, был, надо сказать, глух к поэзии. Бабушка же, которую трогали, казалось бы, одни насущные вопросы - сколько петрушки положить в суп и не простудились ли внуки, - декламировала иногда какие-нибудь колдовские строки из Блока ("Жизнь медленная шла, как старая гадалка, таинственно шепча забытые слова...").
Им было суждено пережить своих детей.
В Одессе мать как-то показывала мне деревья, по которым лазала, улицы, где она бегала, играла, дралась. Юность ее связана с Бендерами. Посерьезнела она в старших классах, а до этого гоняла на велосипеде, командовала братом и сестрой, каталась в гимназии по перилам, возбуждая негодование наставниц.
Ей часто доставалось от отца, но тот "проступок", за который ее, за месяц до окончания, исключили из гимназии, он ей поставить в вину не мог. Она состояла в кружке, который по чьему-то доносу был разоблачен и признан политически опасным. Мать говорила, что они всего-навсего занимались самообразованием, например читали Дарвина, но то было столыпинское время. Кончилось дело тем, что свидетельство об окончании гимназии ей все-таки выдали, но свидетельство о "благонадежности" она не получила. Когда семья переехала в Питер, это помешало ей стать слушательницей знаменитых Бестужевских курсов. Она посещала другие курсы (не знаю их точного наименования, она их называла "Раевские"),
В начале первой мировой войны она готовилась стать сестрой милосердия, но при первой же попытке перевязать раненого упала в обморок, и ее отстранили от этого дела. Какое-то время она работала в справочном бюро, собиравшем для родственников сведения о тех, кто находился на фронте. Иногда приходилось сообщать о гибели мужа, брата, сына на поле боя. И здесь она, глядя на чужое горе, еле держалась на ногах, но потом взяла себя в руки.
Всех ее "продвижений по службе" до того, как она стала учиться и работать в театре, я не знаю. Уже будучи замужем и живя в Москве, она работала в Наркомпросе, одно время в секретариате Н. К. Крупской. Как-то, пользуясь возможностью, она провела Есенина на совещание, где должен был выступать Ленин. Владимира Ильича встретили овацией, которую невозможно было остановить. Ленин уходил, приходил, снова уходил и возвращался.
Мать рассказывала, что Есенин наблюдал за всем этим совершенно бледный, глубоко потрясенный и впивался глазами в Ленина ("...он вроде сфинкса предо мной. Я не могу понять, какою силой сумел потрясть он шар земной").
Я родилась в Орле, но вскоре мать уехала со мной в Москву и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге "Роман без вранья".
Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались.
В самом начале 1920 года в Доме матери и ребенка, который помещался на Остоженке, она родила сына.
Недавно журнал "Наука и жизнь" под рубрикой "По Москве исторической" поместил рассказ об одной из древних улиц - Остоженке, ныне Метростроевской. Фотография, где изображен дом № 36, помещена с такой подписью: "Здесь с первых лет Советской власти был организован "Дом матери и ребенка", работе которого уделял большое внимание В. И. Ленин. Дом проводил работу и по борьбе с детской беспризорностью. Сюда приезжали М. И. Ульянова, Инесса Арманд. К работающей здесь сестрой Зинаиде Райх часто заходил ее муж, поэт Сергей Есенин. Заведовала домом Л. И. Римм. Нередким гостем ее мужа, Карла Римма, отважного разведчика, погибшего смертью героя, бывал его друг Рихард Зорге".
Здесь неточность - Зинаида Николаевна не работала сестрой в Доме матери и ребенка, она там жила, на тех же началах, что и другие матери, оказавшиеся в те нелегкие годы в затруднительном положении; они находились "на самообслуживании", помогая друг другу ухаживать за детьми, несли дежурства.
Зинаида Николаевна старалась не вспоминать о том, как ей жилось до того, как она попала в Дом матери и ребенка. Но здесь, в этом доме, она снова радовалась жизни и всегда вспоминала о нем с восхищением. Все там было на высоте, за детьми наблюдали первоклассные специалисты, изучалась психология детского возраста.
А потом пришла полоса невзгод. Костя опасно заболел, его еле спасли. С путевкой в санаторий мать с грудным ребенком на руках месяц ехала в теплушке до Кисловодска. Брат выздоровел, но очень крепкое от природы здоровье матери оказалось подорванным, и на нее одна за другой посыпались тяжелые болезни. В связи с послетифозной интоксикацией она лечилась в клинике для нервнобольных. Приехавшей из Орла Анне Ивановне врач сказал:
- Ваша дочь должна посвятить себя какому-то интересному для нее делу. Тогда она будет здорова.
И тут проходит водораздел, резко разделивший жизнь Зинаиды Николаевны на две части. Едва не погибнув, она словно родилась снова. В ней многое изменилось. Она могла быть какой угодно - смешливо-радостной,, нежной, поэтичной, бурной, гневной, резкой, а в глазах всегда где-то прятались грусть и боль.
Осенью 1921 года она стала студенткой Высших театральных мастерских. Училась не на актерском отделении, а на режиссерском, вместе с С. М. Эйзенштейном, С. М. Юткевичем.
С руководителем этих мастерских - Мейерхольдом она познакомилась, работая в Наркомпросе. В прессе тех дней его называли вождем "Театрального Октября". Бывший режиссер петербургских императорских театров, коммунист, он тоже переживал как бы второе рождение. Незадолго перед этим он побывал в Новороссийске в белогвардейских застенках, был приговорен к расстрелу и месяц провел в камере смертников.
Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека - мать и отчим - приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабки. В театре перед Всеволодом Эмильевичем многие трепетали. Дома его часто приводил в восторг любой пустяк - смешная детская фраза, вкусное блюдо. Всех домашних он лечил - ставил компрессы, вынимал занозы, назначал лекарства, делал перевязки и даже инъекции, при этом сам себя похваливал и любил себя называть "доктор Мейерхольд".
* * *
Из тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах, понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипенья. Я принадлежала к тому многочисленному сонму девочек, которые непрестанно подпрыгивают и мечтают о балете. Но, несмотря на все свое легкомыслие, тосковала по Орлу и не переставала удивляться людям, которые могут часами говорить о непонятном. Мать была из их числа, я к ней еще не привыкла и ничем с ней не делилась. А "почемучный" возраст брал свое, и, не решаясь ежесекундно почемукать, я решила своими силами выяснить, о чем Мейерхольд подолгу говорил со своими помощниками. Как-то я заранее приготовила себе скамеечку, чтобы спокойно посидеть и уловить начало разговора, - я вообразила, что тогда сумею распутать всю нить. Увы, в самый ответственный момент меня что-то отвлекло, и опыт не удался.
Внутренняя лестница вела из нашей комнаты в нижний этаж, где располагались и театральное училище и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами вся наша квартира заполнялась десятками людей, и начиналась считка или репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах - каждая минута ее была чем-то заполнена. К нам вскоре перебралась родня из Орла, в доме всегда кто-то подолгу гостил, Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид. Мать успевала даже сочинить для детей специальное "меню" и вывесить его в детской. Рано выучившись читать и вечно страдая отсутствием аппетита, я с тоской глядела на это "меню" и, прочитав строчку вроде "8 час. вечера - чай с печеньем", заранее принималась пищать: "Я не хочу печенья". В Москве нас быстро избаловали. Позднее нам наняли учителей и стали приучать к дисциплине. А покуда мы полдня проводили с нянькой на бульваре.
Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: "Новинский бульвар, тридцать два, дом бывший Плевако". В свое время и наш дом, и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала "Вечерняя Москва", и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты - из одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек. Маленькие окна сложным способом предохранялись от ледяных узоров - между рамами ставили на зиму зловещий стакан с серной кислотой, под подоконником висела бутылочка - в нее опускали конец бинта, вбиравшего стекающую с окон влагу.
Напротив, на другой стороне бульвара, стояло очень похожее здание с мемориальной доской - в нем жил Грибоедов. Кто из его современников бродил по нашим комнатам - такими вопросами в двадцатые годы как-то не задавались.
Новинский был оживленным местом - неподалеку шумел Смоленский рынок с огромной барахолкой, где престарелые дамы в шляпках с вуалью распродавали свои веера, шкатулочки и вазочки. По бульвару ходили цыгане с медведями, бродячие акробаты. Приезжие крестьяне, жмурясь от страха, перебегали через трамвайную линию - в лаптях, домотканых армяках, с котомками за плечами.
На бульваре мы нежданно-негаданно познакомились со своим сводным братом - Юрой Есениным. Он был старше меня на четыре года. Его как-то тоже привели на бульвар, и, видно не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изряднова, разговорилась на лавочке с нянькой, узнала, "чьи дети", и ахнула: "Брат сестру повез!" Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы - у него.
Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. Все связанное с Есениным было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен - оберегать. И вот - не уберегли. Сама работящая, она уважала в нем труженика - кому как не ей было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам менял себя внешне и внутренне, сколько вбирал в себя - за день больше, чем иной за неделю или за месяц.
Они с матерью симпатизировали друг другу. С годами Анна Романовна становилась человеком, все более близким нашей семье. С сыном своим она рассталась в конце тридцатых годов и, не зная о его гибели, десять лет ждала его - до последнего своего вздоха.
Есенин не забывал своего первенца, иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас.
Зрительно я помню отца довольно отчетливо.
В детскую память врезаются не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовалом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха - все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать.
С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.
Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.
Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома - она не стала бы меня переодевать.
Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афанасьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. "Вы котлеты пережарили",- скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча под общий хохот:
- Пережарила... Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут! Актеры все сожрут.
Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.
Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой - кто из бедности, кто из принципа.
Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.
Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.
Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, однако виделись сравнительно недавно. Есенин и Дункан несколько раз побывали в Париже; в один из их приездов, возможно в начале того же 1923 года, там же оказались Мейерхольд с Зинаидой Николаевной. Они не избегали друг друга, мать познакомилась с Дункан, рассказывала Есенину о детях.
Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.
Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.
Я видела эту сцену.
Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что "оба плачут". Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.
Отец ушел незаметно.
И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич, посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.
В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи "Собрала пречистая журавлей с синицами в храме...", что он пишет и другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.
У нас появилась первая "бонна" - Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.
Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: "Господи, как безумно жаль мальчишек".
Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.
Помню - мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насиловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно:
- И там меня убьют.
Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку измывается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и вместо того, чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.
Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня... фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.
Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин хочет нас "украсть". Либо сразу обоих, либо кого-нибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал...
И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Александра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой - запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театре выдали в тот раз почему-то трамвайной мелочью.
- На эти деньги, - возбужденно прошептала мать,- вы с Костей поедете в Крым.
Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас, действительно, срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой - прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи "похищения" отцами своих детей передавались из уст в уста.
В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.
Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки,- кроме нее никого не было.
Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.
- Познакомьтесь, моя жена,- сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.
- Да ну-ну, - заулыбалась бабушка, - очень приятно...
Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?
В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.
В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из работников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития - поиграть. Я сидела в "карете" из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом, "грабил" меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.
На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:
- Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке. Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.
Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек - наша бонна - тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:
- Что вам здесь нужно? Кто вы такой?
Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: "Как же это вы меня не узнали?"
- Я пришел к своей дочери.
- Здесь нет никакой вашей дочери!
Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна вгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.
Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.
- Мне надо с тобой поговорить,- сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними, например он спросил: "Знаешь ли ты, кто я тебе?"
Я думала об одном - он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда - в темную дверь кабинета.
И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.
Дверь захлопнулась. Я села в свою "карету", Коля схватил пистолет...
В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.
Мать считала, что если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было безудержным и безутешным и "дырка в сердце", как она говорила, с годами не затягивалась.
* * *
У Есенина нет стихов, где в эпиграфе стояло бы имя Зинаиды Николаевны.
Мне запомнился один разговор, связанный с опубликованием "Письма к женщине". Это было еще при жизни отца. Мать рассказывала домашним о том, что говорили актрисы театра, обсуждая вопрос - к кому относится стихотворение.
Одна сказала:
- Зинаида Николаевна, конечно, это о вас. Смотрите, как написано: "И что-то резкое в лицо бросали мне".
Другая возразила:
- Это не об одной женщине. Это обо всех тех, перед которыми поэт считает себя в чем-то виноватым.
Мать поддержала ее.
Лишь много позже я смогла понять, как потрясли ее эти стихи.
О том, что очевидно, я не буду здесь говорить.
С детства я знала, что к матери обращены еще два стихотворения - "Вечер черные брови насопил..." и "Цветы мне говорят - прощай..."
Скажу сначала еще об одном стихотворении. В нем есть строфа, где речь идет, я убеждена в этом, о Зинаиде Николаевне. Этого нельзя было понять, пока не разыскали Шаганэ Нерсесовну Тальян и не были опубликованы ее снимки.
Вот эта строфа:
Шаганэ ты моя, Шаганэ! Там на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне... Шаганэ ты моя, Шаганэ!
На снимке анфас Шаганэ Нерсесовна удивительно похожа на Зинаиду Николаевну. Любуясь эффектом, я несколько раз раскладывала перед непосвященными людьми четыре снимка, один Тальян и три - матери: они были убеждены, что на всех четырех изображена одна и та же женщина.
Есенин, видимо, никому не говорил, что Шаганэ Нерсесовна "страшно" похожа на его бывшую жену. Не могла бы догадаться об этом, читая стихотворение, и сама Зинаида Николаевна.
Есенин вспоминал о ней в стихах, когда они уже расстались.
Стихотворение "Вечер черные брови насолил..." самим поэтом включено в цикл "Любовь хулигана", который принято целиком связывать с именем А. Миклашевской. Мало того, сам он, как она вспоминает, прочел его ей, как свое прощальное стихотворение. У меня нет ни малейшего повода думать, что этого эпизода не было.
Стихотворение было написано в больнице, в декабре 1923 года. Подруга матери, 3. В. Гейман, ныне умершая, навестила больного поэта, она с ним тоже была в дружеских отношениях. Есенин вспоминал о Зинаиде Николаевне и прочел написанные с мыслью о ней стихи. Об этом я не раз слышала от матери.
Трудно говорить об этих стихах, не приведя их целиком:
Вечер черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил? Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка! Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка Успокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому Я уйду, исцеленный навек, Слушать песни дождей и черемух, Чем здоровый живет человек. Позабуду я мрачные силы, Что терзали меня, губя. Облик ласковый, облик милый! Лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла былая Наша жизнь, что былой не была... Голова ль ты моя удалая, До чего ж ты меня довела?
Все остальные стихи цикла "Любовь хулигана" написаны в ином ключе.
Есенин познакомился с А. Миклашевской в августе - сентябре 1923 года. Проходит октябрь, ноябрь. Почему же в декабре все отодвигается куда-то вдаль: "когда-то", "текла былая", "наша жизнь пронеслась без следа", "молодость пропил"?
Если кому-то в этом стихотворении видится некий собирательный образ - мне нечего возразить. Но мой долг перед матерью рассказать о том, что мне известно.
Стихи "Цветы мне говорят - прощай..." написаны поэтом за два месяца до его гибели: "...я навеки не увижу ее лицо и отчий край".
Что я могу сказать о них? Только то, что, рассказывая мне об отце, мать всегда их вспоминала, а если о них говорил в нашем доме кто-то другой, то обычно именно в связи с тем, что они имеют отношение к Зинаиде Николаевне. Может быть, слова Есенина, кому-то сказанные, заставляли так думать, а может быть, те, кто знал и отца и мать, просто чувствовали, что это к ней были обращены строки:
И, песне внемля в тишине, Любимая, с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне Как о цветке неповторимом.
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"