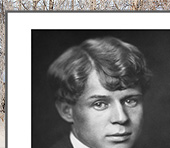


А. Б. Никритина. Есенин и Мариенгоф
Я приехала из Киева в Москву (это год 1920- 1921-й), держала экзамен в Камерный театр Таирова. Одним из экзаменаторов был поэт Вадим Шершеневич. Он преподавал в театре поэтику, ритмику стиха.
Я попала в театр. Часто ездила с Вадимом Шершеневичем на шефские концерты. После концертов иногда приезжали в кафе поэтов "Домино". Оно находилось на Тверской (теперь улица Горького), немного ниже проезда МХАТа. Это было кафе, где встречались все поэты, начиная с Брюсова, всегда подтянутого, в черном сюртуке с белым крахмальным воротничком и манжетами. На одном из таких вечеров, когда мы приехали с Шершеневичем после концерта, Есенин читал свои стихи, потом кричал, свистел, заложив два пальца в рот по-мальчишески, совсем как в стихотворении, написанном в следующем, 1922 году:
Золотая словесная груда, И над каждой строкой без конца Отражается прежняя удаль Забияки и сорванца.
В конце вечера Шершеневич предложил мне пойти в гости к его приятельнице, какой-то пожилой даме, вместе с Есениным. Я, конечно, согласилась. Побыть в обществе Сергея Есенина, послушать его, поговорить (он уже тогда был всеми любим) мне интересно. И я не пожалела. Он был очень хорош в тот вечер. Легкий, веселый, с юморком, чудно улыбался. Действительно, как васильки во ржи цвели в лице глаза. Читал свои стихи. Часа в два ночи мы с Шершеневичем ушли, а Есенин, как и предполагалось, остался там ночевать. Не знаю почему, но ему негде было спать, и эта дама предложила ему ночлег.
Прошло много времени... Я как-то забежала в книжную лавку имажинистов к Шершеневичу - мне нужны были стихи, - и тут из глубины лавки вышел Мариенгоф: "Что ж ты меня не знакомишь?" Много месяцев спустя после моего первого знакомства с Есениным, примерно в июне - июле, он вернулся из какой-то поездки домой, и Мариенгоф меня вторично с ним познакомил. "Ах, эта! Да я ее знаю". Как потом оказалось, ходить с Шершеневичем по гостям, да еще ночью, было не совсем безопасно для репутации молодой девушки... Но ничего... Мы все же подружились с Сергеем Александровичем.
Я часто бывала у них в доме. Я говорю "у них", потому что Есенин и Мариенгоф жили одним домом, одними деньгами. Оба были чистенькие, вымытые, наглаженные, в положенное время обедали, ужинали. Я бы не сказала, что это похоже было на богему. Жили они в Богословском переулке, рядом с театром Корша (теперь это Петровский переулок, а театр - филиал МХАТа). В большой коммунальной квартире было у них чуть ли не три комнаты, правда, одна из них - бывшая ванная. Потом почему-то стало две. Одну, очевидно, отобрали. Одевались они одинаково: белая куртка, не то пиджачок из эпонжа, синие брюки и белые парусиновые туфли. До чего же Есенин был хорош в этом туалете! Походка у него была легкая, слегка пританцовывающая ("В переулках каждая собака знает мою легкую походку"). Приветный, ласковый, гостеприимный, он много работал. Никогда не забуду дня после возвращения Мариенгофа из поездки. Именно дня. Все собрались утром, а разошлись только к вечеру.
Есенин, Мариенгоф, Эрдман, Шершеневич, Ивнев, Старцев - все читали, что наработали, написали за это время. Есенин читал "Пугачева". И то, что он написал, было замечательно, и как он это читал. Пожалуй, никто из поэтов так не читал свои стихи, как Есенин, разве только Маяковский. Но тот совсем по-другому - головно, рационально, а Есенин очень эмоционально, с жаром, с темпераментом. Очень точно написал Горький: "Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе... Я не могу его чтение назвать артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно... Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми". Это верно - голос у него был мягкий и несколько надрывный.
А как он очаровательно напевал цыганские романсы. Он очень любил сумерничать и всегда заводил: "Ну, Мартышон, давай" (так он меня называл). Даже в каком-то письме из Остенде он писал:
В Самарканд-да поеду-у я, Т-там- живет-да любовь моя...
Черный Мартышон! Слышишь ли ты меня?"
Любимая его песня: "На горе стоит ольха, под горою вишня, парень девку полюбил, она замуж вышла..." И столько грусти было в этом. Мы подолгу с ним распевали, негромко, лирично, в полутьме. Еще он очень любил половецкие пляски из "Князя Игоря". Тут уж мы изображали целый оркестр...
В этой коммунальной квартире, где, кроме них, жили рабочие, его очень любили. Он обладал каким-то особым обаянием, был ласков, сердечен, для каждого у него было свое словцо.
Мне вспоминается вечер - его рождение или именины. Был и Мейерхольд, и Якулов - словом, много гостей, а он до их прихода и выпил со всеми жильцами, и в карты на кухне с ними наигрался (там была такая большая, длинная кухня), и так притомился, что заснул. И именины праздновались без именинника. Но никто не рассердился, не обиделся, все смеялись, шутили, пили за его здоровье и объяснялись ему в любви заочно.
Есенин очень любил свою деревню. Бывало, заскучает: "Эх, поеду, поживу там недели две - город надоел, хочется на природу". Уедет и... через три дня возвращается. "Сережа, ты что? Что случилось?" - "Э!" - махнет рукой. Трех дней ему было достаточно. Умом, сердцем, кровью любил деревню, а был городским человеком. Любил хорошие рубашки, одевался у лучшего портного Москвы.
Очень смешно было: осенью 21-го года оба, Есенин и Мариенгоф, появились в цилиндрах. Эти цилиндры так ошарашили москвичей, что даже мои знакомые рядом с Мариенгофом в цилиндре меня уже не узнавали и мне же рассказывали, какой интересный иностранец появился в Москве, хотя я сама видела, как они пялили на него глаза, не замечая меня. Очутились они с Есениным в Петрограде без головных уборов, шли дожди, но купить шляпу без ордера было невозможно. Наконец в одном магазине им предложили: "Хотите цилиндры? Можем продать без ордера". Вот они и ухватились за них.
Есенин со всей его душевной тонкостью сразу почувствовал, что у нас с Мариенгофом возникает что-то настоящее.
Был вечер у Жоржа Якулова в студии. Это был известный художник того времени. Естественно, туда привезли и Дункан. На этот вечер Жорж пригласил и нас троих...
Поехали... И сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина... Весь вечер они не расставались, и... уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистенку к Дункан, а я переехала на Богословский, вышла замуж за Мариенгофа и прожила с ним всю жизнь.
Есенин часто прибегал к нам один, приезжал и вместе с Изадорой, мы бывали у них. Она стала Есенина-Дункан, а потом, за границей, вторично вышла за него замуж и уж стала просто Есенина. И все же жизнь не получилась. Они были люди разных миров, разных понятий. Я уже не говорю о том, что Есенин говорил только по-русски, а Изадора на всех языках, кроме русского.
Однажды мы встретили их у храма Христа Спасителя. Шла чинная "буржуазная" пара - Есенин и Дункан. Сережа страшно обрадовался. Нас пригласили обязательно, непременно прийти вечером. Пришли. Кроме нас, никого не было. Но было торжественно. У каждого прибора стояла бутылка рейнвейна. Они стояли, как свечи. Изадора подняла первый бокал за
Есенина и Мариенгофа, за их дружбу. Она понимала, как трудно Есенину. Она ведь была очень чуткой женщиной. А потом сказала мне: "Я енд ты чепуха, Эсенин енд Мариенгоф это все, это дружба". Я-то, конечно, была чепуха. Вскоре они уехали за границу.
Перед отъездом за границу Дункан и Есенин пришли к нам прощаться. Сережа протянул Анатолию стихотворение "Прощание с Мариенгофом".
И в ответ Мариенгоф протянул свое. Вот его последние четыре строчки:
А вдруг При возвращении В руке рука захолодает И оборвется встречный поцелуй...
По существу, стихи оказались в какой-то мере пророческими. Мариенгоф записал: "По возвращении "наша жизнь" оборвалась. "Мы" раздвоилось на я и он". Ну, это я забежала вперед...
Есенин, конечно, не просто поехал в свадебное путешествие, он поехал как русский поэт. Завоевывать Европу и Америку.
Бедные, бедные крестьяне, Вы, наверно, стали некрасивыми, Так же боитесь бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, Что сын ваш в России Самый лучший поэт!
И он не ошибся, прошло полвека, и Есенин теперь - наша национальная гордость.
Европа и Америка ему не нравились. Он тосковал по России. Из Европы он пишет Мариенгофу: "Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая "северянинщина" жизни..." (...)
Там, из Москвы, нам казалось, что Европа - это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может" (V, 110).
Из Америки.
Нью-Йорк 12 ноября 1922 г.
Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься... Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские "сто тысяч улиц" можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире.
О себе скажу (хотя ты все думаешь, что я говорю для потомства), что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь.
Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, "заграница", а теперь, как увидел, молю бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно [...]. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксенова. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки (...)
Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я пишу это письмо тебе. Потому в России сейчас ночь, а здесь день.
Вижу милую, остывшую твою железную печку, тебя, покрытого шубой. И Мартышон.
Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре "железа и электричества" здесь у каждого полтора фунта грязи в носу" (V, 118-120).
Изадора рассказывала: "Банкет, все пьют его здоровье, говорят о нем с восхищением (он очень нравился американцам). А у него глаза вдруг наливаются кровью: домой, сейчас же домой. И я, конечно, бежала, боясь худшего скандала". Он был ущемлен: везде он был на втором месте, на первом Исидора.
Вернулись на родину они вдвоем, но скоро разошлись.
1923 год, август, мы в Одессе, у нас сын. Мы без денег, в долгу. Есенин присылает нам деньги, телеграмму: "Приехал, приезжайте, Есенин". Радости нашей не было конца. Мы кладем своего месячного сына в серенький чемодан (конечно, открытый!) и едем в Москву, в Москву, на встречу с Сережей. И как грустна была эта встреча, как больно было на него смотреть: он как-то посерел, и волосы потяжелели, и глаза помутнели. Какая-то компания возле него нечистоплотная - присосавшаяся. Вскоре на время он переехал к нам на Богословский. Все говорил: "Вымою голову". У него были свои ударения, и мягко произносил "г". Он любил мыть голову, и правда, волосы опять становились легкие, глаза светлели.
Как-то привела к нам Миклашевскую. Актрису Камерного театра. Я с ней дружила, хотя была много моложе. Тогда я почему-то всегда была моложе своих друзей, а теперь всегда старше. Она играла принцессу Брамбилу и славилась своей красотой. Когда я поступила в Камерный театр, то спросила: "А где эта знаменитая красавица, покажите мне ее..." - "Да вот, возле вас..." Я оглянулась... Стояла рядом крупная женщина, на плечах русский платок, бледная, ничего выдающегося... Но через 20 минут я уже наслаждалась ее красотой. Большие карие глаза, прямой нос. Чудный маленький рот, ничего броского:
Ты такая ж простая как все,
Как сто тысяч других в России...
И еще:
Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
Вот это точный ее портрет.
Прошло много времени, мы не встречались. Есенин уехал в Баку, Тифлис. Жизни разошлись. Шел 1925-й год.
Мы были у Качаловых вместе с Саррой Лебедевой - скульптором. Много говорили о Есенине. Василий Иванович читал его стихи "Собаке Качалова". Вернулись все трое к нам домой часа в 4 утра. Вдруг входит моя мама и говорит: "Сережа был, все время смотрел на Киру (это наш сынишка), плакал, хотел помириться с Толей..." Мы прямо растерялись. Подумайте, мы там все время говорили о нем, а он сюда пришел. Мы были в отчаянии. Где же теперь его найти? Постоянного жилья у него не было, он ночевал то здесь, то там. И вдруг назавтра, часа в 2 дня, четыре звонка - это к нам. Открываю - он, Сережа. Мы обнялись, расцеловались. Побежали в комнату. Мариенгоф ахнул. Он был счастлив, что Сережа пришел. Есенин смущенно сказал: вся его "банда" смеется над ним, что он пошел к Мариенгофу. "А я все равно пошел". Они сидели, говорили, молчали... Потом Есенин сказал: "Толя, я скоро умру, не поминай меня злом... у меня туберкулез!"
Толя уговаривал его, что туберкулез лечится, обещал все бросить, поехать с ним, куда нужно.
Никакого туберкулеза у него не было. А просто засела в голове страшная мысль о самоубийстве. Она была у него навязчивая, потому что когда Есенин очутился в нервном отделении у Ганнушкина и мы к нему пришли, он только и рассказывал, что там всегда раскрыты двери, что им не дают ни ножичка, ни веревочки, чтоб чего над собой не сделали.
Я больше его не видела, а Мариенгоф рассказывает:
"День был серого цвета. Я сидел на скамейке бульвара против Камерного театра.
- Сережа!
Есенин не сразу услышал. Шляпа, побуревшая от мокрого снега, была надвинута на самые брови.
- Сережа!
- Здорово! Небось, Мартышона поджидаешь? - Сел рядом, сдвинул шляпу на затылок и неожиданно спросил: "Толя, ты любишь слово покой?"
- Слово - люблю, а сам покой не особенно.
- Хо-рошее слово! От него и комнаты называются покоями, от него и покойник. Хо-орошее слово!
И, рассеянно поцеловав меня в губы, сказал:
- Прощай, милый!,
- Куда торопишься, Сережа?
- Пойду с ним попрощаюсь.
- С кем это?
- С Пушкиным.
- А чего с ним прощаться? Он, небось, никуда не уезжает.
- Может, я далеко уеду.
Это был мой последний разговор". Есенин уехал в Ленинград...
© S-A-Esenin.ru 2013-2018
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"
При использовании материалов обязательна установка активной ссылки:
http://s-a-esenin.ru/ "Сергей Александрович Есенин"